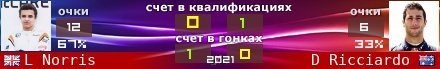Климат с раздражающими факторами
Самое сильное чувство, сопровождавшее меня все годы,
было жгучее нетерпение молодого гонщика, вобрать в себя все
прекрасное и ценное. Основной мотив: «Иначе однажды ты
почувствуешь старость и осознаешь, что ничего и не пережил».
Теперь страх постареть и ничего при этом не пережить у меня
отсутствует. Я еще молод, испытал невероятные вещи, и испытаю
еще больше. Я просто чувствую окончание одного жизненного
отрезка особенной интенсивности: как на финишной прямой.
Герхард Бергер
Два модных молодых парня вышли из главного здания Ferrari в Маранелло и побрели к
стоянке. Они были высокооплачиваемыми специалистами, чьи способности могли
сыграть большую роль в общем успехе фирмы. Перед началом нового сезона президент
произнес для них небольшую речь, чтобы мотивировать обоих и дать прочувствовать
серьезность ситуации: драматическое снижение оборота в области сбыта дорогих
спортивных автомобилей, давление на бюджет гоночной команды и срочная
необходимость в успехах. Новый блестящий имидж, который могла дать Формула 1,
смог бы оживить и общий бизнес фирмы. Короче говоря:
„Нам будет нужно все, что вы можете предложить — талант, силы и серьезное
отношение к делу — чтобы довести вашу работу до впечатляющих успехов“.
Это был первый рабочий день нового сезона, первые тестовые заезды. После
президента спортивный директор также произнес несколько конструктивных слов,
апеллируя к серьезности обоих мужчин.
Они все поняли. Еще две недели до первых гонок в Бразилии. Впереди были великие
времена.
Жан Алези и я шли к припаркованным автомобилям, чтобы найти машину, на которой
мы могли бы проехать примерно километр от заводской территории до тестовой трассы
Фиорано. Видны были только Lancia и Fiat, одна из Lancia, вероятно, и была приготовлена
для нас, поскольку ключ был в замке.
Через пару машин я увидел особенно красивую Lancia Delta Integrale, которая особенно
понравилась нам из всего ряда машин, и ключ у нее тоже был в замке. Ее мы и решили
взять.
„Кто поведёт?“
Алези вызвался сесть за руль, и у меня возникло чувство, что он очень амбициозно
может начать свой новый сезон. Возможно, он мог бы ярко проявить свое чемпионское
умение уже на подъезде к Фиорано? Как бы то ни было, я максимально отодвинул сиденье
назад, уперся выпрямленными ногами в пол и застегнул ремень.
Хотя мы гонок выиграли к тому времени совсем немного, но были очень хороши, когда
ехали совместно, например: Алези отвечает за газ, Бергер – за ручной тормоз.
Жан вылетел из главных ворот как сумасшедший и набрал достаточно скорости, чтобы
пройти первый правый поворот в заносе, причем я помогал ему ручным тормозом. Он дал
абсолютно полный газ…у нас получилось замечательное силовое скольжение, которое
Lancia элегантнейшим образом начала исполнять всеми четырьмя колесами.
Вдруг одно переднее колесо зацепилось за асфальт и вызвало самое изящное движение,
на какое способен автомобиль: переворот набок через переднее колесо.
Мы почувствовали, что летим в воздухе, причем Жан еще больше чем я, потому что он
не пристегнулся ремнем безопасности. Машина переворачивалась одновременно набок и
„через голову“, мы ничего не могли предпринять, кроме как издавать визг и дикий хохот.
В конце концов Integrale с ужасной силой рухнула на крышу, в таком перевернутом
положении проскользила дальше и врезалась в стену. Алези был в полностью
перевернутом состоянии, его колени торчали из окна, крыша была практически
полностью сплющена, наши носы почти соприкасались между сиденьями. Повсюду
клубился дым и вытекало масло, я испугался, что сейчас может начаться пожар. Шансов
освободиться не было, наши головы были зажаты между сплюснутой крышей и ручным
тормозом.
При всем при этом мы почти достигли цели, практически рухнув под ноги механикам,
которые занимались прогревом наших гоночных автомобилей. Они вытащили нас через
деформированные окна за руки и ноги, вокруг клубился пар, все шипело и потрескивало.
Шоу стало еще эффектней, когда примчалась машина скорой помощи. На каждых
тестах уже в течение 25 лет на трассе всегда находится медпомощь в составе двух врачей,
которым 25 лет было нечего делать, поскольку здесь редко кто вылетает, да и зоны
безопасности в Фиорано достаточно велики. Поэтому доктора были несказанно рады,
когда наконец-то получили достойное занятие, и приложили все силы, чтобы как можно
быстрее спасти нас из обломков и погрузить в свою машину.
Я тут же сообщил им, что со мной все в порядке, просто ушиб крестец, а вот у Жана
были все шансы на серьезные процедуры, у него была кровь на голове и ногах, из колена
торчали какие-то стеклянные осколки.
Алези сказал: „Я сейчас лучше сбегу и поеду домой“ и поинтересовался, смогу ли я
проехать всю дистанцию.
„Конечно, Жан, нет проблем. Я сейчас надену шлем и не сниму его, пока все не
закончу“.
Механики перевернули сплющенную Integrale, убрали обломки, масляные пятна, затем
оттащили кузов в сторону и закрыли тентом.
Алези уехал, я наматывал круг за кругом по трассе. Когда я первый раз завернул в
боксы для настройки машины, из-за угла показались Монтеземоло и Жан Тодт.
Ой!
Я не знал, в курсе они или нет. Кругом суетились механики, Тодт стоял рядом. Я
спросил его робко (разговор шел на не совсем правильном английском, разговаривали
тиролец и француз):
„Вы уже слышали?“
„Что я слышал?“
„Так вы ничего не слышали?“
„Нет, что ты имеешь в виду?“
„Так Вы не слышали, что автомобиль перевернулся?“
„Что ты имеешь в виду, говоря: автомобиль перевернулся?“
„Это и имею в виду“
Жан строго посмотрел на боевой автомобиль, вокруг которого еще работали механики.
„А ну-ка, скажи мне точнее, что это ты говоришь?“
Я сказал, что мы с Алези ехали на Lancia и «вдруг автомобиль неожиданно обрел
сцепление с асфальтом и покатился».
„Что значит — покатился?“
„Ну, мы ехали сюда, возможно, чуть быстрее, чем следовало, машина „зацепилась“ за
асфальт и упала“
„О.к, Герхард, я понял, что машина „зацепилась“ за асфальт, но что значит –
перевернулся?“
„Приземлилась на крышу“.
Жан осмотрел меня сверху донизу.
„Ты поранился?“
„Нет“
„А Жан?“
„Не совсем“
„Что значит – не совсем?“
„У него немного стекла на руках и он пошел домой, потому что чувствует себя не
совсем хорошо“
Тут он наконец-то осознал случившееся и разгневался, потому что в гонщики ему
достались два полных идиота, которые чуть было не угробили друг друга за две недели до
первой гонки сезона. Он ругался и читал мне проповеди. Он, мол, переоценил нас и тому
подобные вещи, которые отец выговаривает своему глупому провинившемуся сыну. Я
старался выглядеть по возможности более подавленным.
Наконец он спросил:
„А где машина?“
Я показал. Он подошел к небольшому смятому кубу металла, укрытому тентом. После
поднятия тента Тодт как будто получил сокрушающий удар, и некоторое время был
словно в припадке.
Тут только до меня дошло, что это был собственный автомобиль Жана. Мне было
ужасно жаль, но прежде чем я смог ему об этом сказать, решил быстро надеть шлем и
закончить положенные тестовые километры.
Впоследствии все очень боялись, что журналисты докопаются до этой истории и
расчихвостят всю фирму, но это был один из редких случаев, когда в доме Ferrari все
держали язык за зубами.
Крутящий момент
Начало осени, трасса А1-Ринг, плюс ко всему еще и штирийское солнце, которое
дополнительно придавало лоск новой шикарой арене. Самое время, что бы Австрия вновь
обрела свой Гран-При, после 10-летней паузы. Сто тысяч зрителей, море флагов и
транспарантов – все было как в те времена, когда все было второстепенным, кроме
здоровой правой ноги, которой можно было нажать педаль до упора в пол.
Кто бы мог тогда подумать, что однажды гонщик будет оправдывать свое
восемнадцатое место на старте неправильным вводом данных в компьютер? Не поняв
основные, базовые настройки, и в точных нюансах ничего не добьешься…Вечером я
поймал себя на мысли: а неплохо бы проехать еще на трассе А1, и может быть, мне… А,
чепуха, сказал Бергер Бергеру, пора на покой.
Пресс-конференция в венском отеле „Империал“. Я не мог или не хотел готовить текст
заранее. Мне и так тяжело было сказать ясно и четко: „Это все, друзья“. Я имею в виду,
что тут ты внезапно понимаешь „Эй, ведь в этом все то, что составляло смысл твоей
жизни»
Не считая вопросов о самом решении [уйти из спорта], о том, как оно появилось, о
статистике моих успехов и неудач, в тот день с журналистами и друзьями были и другие
темы, на которых мы „застревали“.
Отдельно взятая персона. Берни. Странно, что именно самый главный циник стал
темой разговора в такой сентиментальный день. Это может означать только то, что я
оценил ту «сцену», которую Берни Экклстоун соорудил в первую очередь для себя, но и
для всего нашего спорта тоже. Только благодаря этим, скажем так, рыночным рамкам и
возрастающим усилиям, все то, что мы делали на трассе и где-то еще, нашло свою цену. Я
подразумеваю не только деньги.
Почему я так и не стал чемпионом мира? Это тоже было одной из тем разговора. Здесь
я приведу свежеосмысленную и улучшенную версию того, что я говорил когда-то раньше.
Во-первых, я слишком поздно понял всю серьезность современного гоночного спорта.
Слишком поздно я внедрил в свою систему необходимые детали, такие, как, например,
физическая подготовка. Мой талант встал у меня же на пути, поскольку моей скорости и
рефлексов было достаточно, чтобы выигрывать гонки, даже ничего, кроме собственно
езды, не делая – например, Сузука и Аделаида в период моего первого пребывания в
Ferrari. Тогда меня трудно было убедить в том, что я должен, собственно, пробегать
десять километров в день и отрабатывать такие мелочи, как заезд в боксы.
Во-вторых, я думаю, что меня окружало другое поколение. У этих мальчиков уже был
гигантский опыт до того, как они вообще появились в Формуле 1. Преимущественно это
шло из картинга. Михаэль Шумахер, например, начал заниматься картингом в 4 года.
Результат наблюдений, восприятие функционируют там так же, как и в большом спорте, и
дети развивают этот нюх на детали. Они умели оптимально настраивать карт, меняя
давление воздуха на сотые доли миллибара, еще до того, как пошли в школу. Это
«картинговое поколение», к которому принадлежит и Александр Вурц, автоматизировало
компьютерный подход к этому, все более начиненному вычислительными системами
спорту. Никакой природный талант не смог бы побить этих ребят за счет одной скорости.
В-третьих, мне не очень везло со временем моих трансферов, но я намеренно ставлю
этот аспект на последнее место. Все-таки в 1990 году я попал в McLaren, в машину, на
которой можно было стать чемпионом. У Айртона Сенны же это получилось. Но тогда я
только-только стал „пробуждаться“ и был впервые в настоящем мире.
Теперь я знаю, как было бы лучше, но это не должно звучать жалостливо. То, что
теперешним детям дает карт, мне давали лыжи и всяческие безумия, которые только
могут дети найти в жизни. У меня было фантастическое детство, и все, что получилось из
радости и рефлексов, озорства и сноровки, и создало «крутящий момент» моей гоночной
карьеры.
Один из детей ложился поперек заснеженной дороги и притворялся мертвым.
Проезжающий автомобиль останавливался, водитель выскакивал: «Что случилось? –
Ерунда, просто поскользнулся…» Пока человек забирался в машину обратно, мы
выскакивали из-за сугроба с ранцами за плечами, подползали к заднему бамперу и
хватались за него руками в перчатках, находясь в зоне, которую невозможно видеть в
зеркала. Тот, кто оказывался у бампера третьим или четвертым, мог занять место только у
глушителя, и в итоге получал дыру в куртке. Мы скользили на подошвах за автомобилем,
и поскольку водитель не подозревал о непрошенных «буксируемых», то мог развивать
скорость и под 80 километров в час. Единственной проблемой были канализационные
люки. Из-за тепла, шедшего снизу, на них не было снега. Увидеть их было невозможно, и
удар происходил неожиданно. Зачастую от неудачника оставались только перчатки на
бампере. Если снеговые условия позволяли, мы ездили так каждый день, таким образом,
посещение школы обретало смысл.
Вначале были лыжи. У нас дети вставали на них в три года, и тогда матери получали
несколько часов отдыха. В период с декабря по март, когда я возвращался из школы
домой, то бросал ранец в угол и шел кататься на лыжах. Поиск особых ощущений начался
рано. Например, мы с удовольствием спрыгивали с подъемника. Если четверо парней
одновременно спрыгивают, оставшихся резко бросает на 5 метров вверх. Супер!
Одно время мы сочетали лыжи со спортом на пересеченной местности, носясь через
леса и скалы, зачастую не зная, скала впереди обрывается на пять или двадцать метров?
Только после прыжка можно прикинуть, куда будешь приземляться.
Велогонки были тоже тем еще развлечением. Мне было шесть лет. Мы спускались с
гор на черных армейских велосипедах Steyr, которые не имели тормозов, а только задний
ход. Все происходило невероятно быстро. Часто соскакивала цепь, тогда и включение
заднего хода отказывало и тогда оставалось только попробовать пройти еще парочку
поворотов и затем вылетететь.
Выбор между моторным и лыжным спортом пришлось делать примерно в 14 лет, и
тогда мне были интересны только мотоциклы. Фанатом автоспорта я не был. Я знал, кто
такой Риндт, но внимательно за гонками не следил.
Меня захватывала только чистая скорость, немного техника и способность овладеть
аппаратом.
У нас дома был погрузчик, и я целыми днями пытался проехать на нем на двух колесах.
Я наблюдал, на что способны гусеничные машины. Типичной «игрой на терпение» для 13летнего
подростка была парковка грузовика задним ходом, что было, поверьте, сложной
процедурой. Иногда я вставал в 5 утра и до завтрака только и делал, что тренировался в
парковке грузовика. Или ездил «в заносе» на отцовском BMW.
Происходили и вещи, которые я сегодня не назвал бы легальными или корректными.
Во время, когда нам было по 18 лет, мы гоняли на спор на расточенных
незарегистрированных мотоциклах. Вверх к Аахенскому озеру – это была наша домашняя
трасса. Каждый вечер мы устраивали 4-5 заездов. Один следил, чтобы не появилась
жандармерия, мотоциклисты прибывали с разных сторон. Это была настоящая мания,
каждый вечер после работы…
Мой форсированный Kawasaki развивал скорость до 270 км/ч. Если с таким темпом
достаточно долго мчаться по автобану, шины настолько расширялись, что начинали
задевать крылья. Такое ощущение мне подходило.
В моей ранее вышедшей книге «Граничная зона» (1989, издательство Orac, Вена) речь
идет о моих ранних годах. Здесь я не хочу повторяться, рассказывая о годах, проведенных
в команде Alfasud и Формуле 3, чудесном времени кузовных гонок на BMW и начале
карьеры в Ф1 на ATS, Arrows и старом («зеленом») Benetton.
Нельзя, однако не упомянуть трех людей того времени, поскольку «крутящий момент»,
который они мне придали, каждый своим способом, движет меня и сегодня.
Хельмут Марко «выловил» меня из анонимной массы молодых гонщиков и спросил,
хочу ли я кем-то стать. Он великий аналитик гоночного спорта, ни у кого больше я не мог
столь многому научиться. Он был тяжелым, агрессивным и недипломатичным. Он придал
мне некоторую жесткость, достаточную, чтобы впоследствии общаться с Энцо Феррари.
Роном Деннисом и Берни Экклстоуном. И в качестве менеджера он был князем по
сравнению со всеми странными субъектами, которых сегодня можно видеть там и тут.
Бургхард Хуммель был гением в отношениях, человеком «наш пострел везде поспел»,
таким он и остается сегодня. Он идеалист, который своей верой смог заразить Бергера. В
какой то момент мне перестали быть нужны его связи, но его психологическое
проникновение в суть гонщиков всегда было мне огромной помощью. Если у тебя есть
такие друзья, ты в надежных руках.
Если Марко был «кнутом», Хуммель «кнутом и пряником», то Дитер Штапперт –
чистым «пряником». Невероятно тонко чувствующий специалист моторного спорта,
который был в нужное время спортивным директором BMW, поверил в меня и
«вытащил». Конечно, в наших отношениях господствовали «приколы», но это скорее
было фирменным знаком моего круга друзей.
В другом месте книги я упоминал, что самым прикольным из всего времени между
безграничными шалостями молодости и развитием моей карьеры было пророчество
школьных учителей. Самому бесполезному существу в округе они все время говорили:
«Бергер, из тебя никогда ничего не получится». Но посмотрите: между тем я встречался с
Папой, а где в это время был наш профессор религии?
Ferrari и Старик
1987,1988,1989
Вы помните из вводной главы о выходке с машиной Жана Тодта в Фиорано. В общемто,
это была просто дурацкая выходка двух мальчишек, но дело было немного и в
раздражающем климате ландшафта Ferrari. Я имею в виду, что в английской команде ты
бы вышел из ворот заводской территории совсем по-другому, даже Алези сделал бы это
совсем по-другому.
Потребовалось время примерно до 1997 года, пока в гоночной команде Ferrari не
установилась холодная функциональность, соответствующая английским условиям (а
английские условия — это просто стандарт в Формуле 1, при всем ее мировом влиянии).
Первый период в Ferrari, о котором я могу рассказать, был еще не испорчен новой
функциональностью Росса Брауна. Были разве что попытки попасть в эту область. Как
гонщик ты хочешь получить и то и другое: сладкое безумие, которое нас подстёгивает, и
одновременно клинически-трезвый подход к самым заманчивым технологиям своего
времени.
Когда я впервые пришёл в Ferrari в 1987 году, о ситуации с Шумахером нельзя было и
подумать. Старик никогда бы не допустил, чтобы гонщик доминировал над самой
фирмой. Ferrari была империей с частично открытыми, частично тайными силовыми
линиями власти, и гонщики были всего лишь наружным постом, который должен был
выполнять свою работу: отдел, ответственный за педаль газа.
Изначально Ferrari была единственной крупной фирмой во всей Формуле 1, все
остальные были по сравнению с ней «гаражистами» (Энцо Феррари так и любил их
называть). Поэтому в семидесятых годах Ники Лауда и стал таким исключением: потому
что не пошёл на поводу у политики Ferrari, а получил как гонщик достаточно влияния,
чтобы действительно использовать превосходящие технические ресурсы. Техника фирмы
всегда зависит от политики фирмы. Если как гонщик ты хочешь что-то изменить, надо
быть в самом сердце клубка интриг.
Ещё немного сложнее все становилось из-за мании Феррари все держать в секрете.
Первое с чем мне пришлось столкнуться, стала их конспирация. Моя премьера перед Энцо
Феррари в августе 1986 года происходила таким образом: гоночный директор Пиччинини
заставил меня на последнем участке пути пересесть в его машину и лечь плашмя сзади,
чтобы меня никто не увидел. Таким манером мы приехали в личное бюро Старика в
Фиорано, знаменитый дом с красными ставнями. Речь шла о том, чтобы заменить в
качестве гонщика Штефана Йоханссона и стать таким образом коллегой Микеле
Альборето.
В бюро были опущены все жалюзи. Вначале я думал, что это тоже связано с
секретностью, но позже понял, что Энцо Феррари вообще любил сумрак в кабинете.
Настольной лампы ему вполне хватало.
В свои почти 90 лет он никоим образом не походил на милого дедушку, напротив —
холодный старик с глазами как у акулы (если он вообще снимал тёмные очки).
Первым делом он вынул огромный носовой платок и плюнул в него, затем долго и с
удовольствием высморкался. Вообще он часто и открыто сморкался, это была его часть.
Пиччинини переводил. Феррари сразу перешёл к делу: если мы сегодня договоримся,
готов ли я сразу подписать договор? Сказав да, я, таким образом, отрезал себе пути к
отступлению типа «мне нужно сначала позвонить своему менеджеру».
«Что самое главное, чего ты ожидаешь от Ferrari?»
«Чтобы техника была в порядке»
«Ты получишь лучшего инженера, который только есть»
«Есть только один»
«Мы имеем в виду одного и того же»
На этом стало ясно, что Ferrari уже заполучила Джона Барнарда, который до тех пор
был в McLaren. Так же стало ясно, что Феррари уже должен был привыкнуть к крупным
суммам, так как Барнард считался одним из тех людей в бизнесе, которые стоят любых
денег и требуют их. Итак, теперь к самой сложной части: какую зарплату мне бы
хотелось?
Как определить ценность гонщика, который имеет за спиной неполные два сезона и
еще ничего не выиграл? С другой стороны: вместе с Сенной я был, без сомнения, самым
быстрым из молодых. Benetton не хотел меня отпускать. McLaren и Williams сделали
хорошие предложения. Сколько я должен был скинуть ради мифа Ferrari?
Гм.
Конечно, именно над этим я уже раздумывал несколько дней. Я также спросил совета у
Ники Лауды, который за десять лет до того пережил адский скандал во время своих
переговоров, с орущим Стариком и бухгалтером Делла Каза, который сидел рядом со
счетной машинкой, чтобы пересчитывать доллары в лиры.
Но у Энцо Феррари уже не было огня для шоу. Кроме того, я был умерен в
требованиях: 1,2 миллиона долларов, сказал я твёрдым голосом, он согласился, вот так все
было просто. Кроме того, он хотел получить опцион на второй год, за два миллиона
долларов. На тот момент это было для меня прекрасно. (Когда опционом действительно
воспользовались, я показался себе ужасно низкооплачиваемым, поэтому я взял реванш,
потребовав за третий год пять миллионов. Это было в феврале 1988 года и Старик,
который был уже слишком стар, чтобы скандалить, все таки сказал хорошую фразу: «Нам
ещё повезло, что Бергер выиграл в прошлом году только две гонки, а то бы он снял с нас
последнюю рубашку».)
Как бы то ни было, я стал последним гонщиком которого Энцо Феррари выбрал лично.
С технической точки зрения в 1987 году мы переживали век облегчённых турбо
(давление наддува было уже ограничено), что означало экономить бензин и
соответственно давало широкие возможности для тактики. В Ferrari сложился
классический сценарий: Джон Барнард в Англии создаёт форпост технологии Ferrari,
Харви Постлтуэйт руководит повседневной технической работой над машиной, которую
начал конструировать Густав Бруннер, Марко Пиччинини гоночный директор и главным
образом управляет старым Энцо Феррари, чей сын Пьеро Ларди еще не может называть
себя Феррари (в память умершего законорожденного сына), но уже сильно влияет на
политику.
Часть команды пыталась посадить Барнарда в лужу. Я же принадлежал к тем, которые
делали на Барнарда ставку, в отличие от Альборето, с которым у меня вообще было мало
общего.
В общей метеорологической обстановке Формулы 1 абсолютно доминировали
Williams-Honda и гонщики тоже не давали слабины. Ведь это все-таки были Нельсон Пике
и Найджел Мэнселл.
Во-первых, я был счастлив быть в Ferrari, во-вторых, слишком наивен, в-третьих, не
понимал по-итальянски и, таким образом, был мало подготовлен к внутренней политике
Ferrari. Я принёс с собой только свою беззаботность и базовую скорость, которая
оказалась немного высока для моего дорогого коллеги Альборето. Зато у него была
большая поддержка в Маранелло.
Так могла произойти баснословная история, когда мой мотор был запрограммирован на
меньшую мощность, чтобы Микеле Альборето лучше выглядел. Это не просто буйная
фантазия недоверчивого пилота, а давным-давно задокументированный факт.
Ответственных за это в своё время выкинули, так как саботаж был приказан не сверху, а
произошёл на среднем уровне, а именно из-за подкупа со стороны одного итальянского
графа, который был спонсором Альборето.
В начале нам не хватало до Williams захватывающие четыре секунды, к концу сезона
все более уравнялось, и я уже было смог хорошенько почувствовать свою первую победу
в Ferrari, но сразу же и упустил ее. (Разворот в Эшториле. Но что это по сравнению с тем,
что я познакомился в те выходные с Анной?)
Энцо Феррари написал мне письмо. В то время он уже не был большим писателем
писем, и это было что-то особенное. Он писал так, как вероятно полвека назад писал
Тацио Нуволари. С той только разницей, что в то время он вряд ли был так доволен
вторым местом. Перевод только испортит благозвучие этого языка:
Caro Berger!
Ho ammirato e sofferto la su bella corsa. Bravo! Sara per la prossima volta, perche lei
merita una grande soddisfazione di cui la Ferrari ha bisogno e per la quale di noi tutto
lavoriamo.
Cari saluti, Ferrari, Maranello, 22 settembre 1987.
Зубастая турбо-Ferrari была как будто для меня сделана: оптимальный баланс, но такой
что последние десятые доли секунды можно было добыть только из последних сил.
Настоящая машина-боец, в которую я идеально вжился, это почувствовала так же и
команда, и внезапно я начал получать самые быстрые моторы.
То, что я выиграл последние две гонки сезона, Японию и Австралию, потом показалось
некоторым образом нормальным, логическим началом для чемпиона, которым я вскоре
должен был стать. При взгляде назад это имело тем большее значение, так как победы под
занавес сезона 1987 года как Маттерхорн [горная вершина в Швейцарии] возвышались над
холмиками прошлых лет.
Харви Постлтуэйт сказал тогда: «Герхард проехал великолепные гонки, очень похожие,
каждый раз почти одинаковые: в начале он ехал быстро и жёстко, чтобы деморализовать
других и два часа спустя приводил машину к финишной линии в идеальном состоянии —
мотор, шины, коробка передач. Это в стиле Лауды. С той небольшой разницей, что
Герхард, наверное, немного быстрее, чем Ники» (однако на тот момент последний уже два
года был на пенсии).
Почему же ни мне, ни Ferrari не удалось использовать взлет осени 1987 года как трамплин
для такого желанного чемпионского титула?
Как бы то ни было: зимой наши инженеры почивали на лаврах, а когда весной они
очнулись, мы были на световые годы позади мощной комбинации McLaren-Honda.
Энцо Феррари умер 7 августа 1988 года, и знатоки знали, что произойдёт первым
делом: смерть держали в секрете. Ходили слухи, что Ingegnere [Энцо Феррари носил
много титулов. Изначально самым употребляемым был Commendatore, который вообщето
был уже недействителен, так как он был введён во времена фашизма и в
послевоенной Италии не обновлялся. Также часто употребляли Presidente, пока не
выяснилось, что Старик больше всего любит звание инженера (Ingegnere) выданным
техническим университетом Модены. Феррари ведь никогда не получал технического
образования, всю жизнь его призвание состояло в том, чтобы быть шефом (и
«погонщиком») великолепных инженеров] скончался, но официально никто ничего не
знал. Только когда его давно уже похоронили, миру разрешили начинать оплакивать, а
еще месяц спустя все достоинство и значительность Энцо Феррари удостоилось
заупокойной мессы в соборе Модены.
Люди постарше любят ругать меня и мне подобных, потому что нас не интересует
«собственная» история: Лауда не был специалистом по истории Ferrari, у меня не было
никакого понятия о триумфах Хуана Мануэля Фанхио, и Михаэля Шумахера тоже не
стоит спрашивать, в каком году Аскари перебежала дорогу чёрная кошка на трассе
Монцы. Есть люди, просто пропитанные детальными знаниями о вселенной Ferrari, они
бы отдали палец на руке за право один единственный раз посидеть в Ferrari Формулы 1
или увидеть, как сморкается Энцо Феррари. А ктото вроде меня, со свободным входом в
рай, интересуется только сегодняшним днем и не имеет ни малейшего понятия об
исторических событиях.
Таким образом я узнал Энцо Феррари только в отношении текущих событий, во время
обедов с Пьеро Ларди, Пиччинини и Альборето, где все болтали по-итальянски, пока чтото
не спрашивали меня и тогда мне кое-что переводили.
Я думаю, что зимой 87/88 Старик ещё держал все нити в руках. Ему не нужно было
делать ничего другого, как только листать в задней комнате «крестьянского двора» в
Фиорано все возможные телексы и результаты, читать газеты и стучать кулаком по столу
во время ежедневных совещаний. Его взрывы ярости еще воспринимались всеми всерьёз.
Как бы то ни было, у него хватило мудрости позволить такому человеку, как Барнард,
работать в Англии. С итальянской точки зрения это было равноценно признанию в
технологической и организационной слабости, Энцо Феррари был не слишком хорош для
этого.
Весной 1988 года, после его 90-го дня рождения, его уже почти не видели. Он даже не
смог присутствовать, когда завод Ferrari посетил Папа, они только пообщались по
телефону.
Когда меня представили Папе, он поболтал со мной по-немецки. Что мне понравилось
больше всего, это мысль о моем учителе по религии, который тоже был одним из тех,
которые говорили: Бергер, из тебя никогда ничего не получится.
Потом Папа освятил боевые машины для Гран-при Канады, к сожалению, они обе
сошли.
Некоторые биографы утверждают, что Энцо Феррари в 1988 году все больше слабел изза
результатов своих машин. Действительно, с точки зрения Ferrari мы переживали не
самые лучшие времена, в которые старая слава уже ничего не значила. Honda переместила
свои чипы с Williams на McLaren и новые машины настолько нас опережали, что
становилось просто стыдно. К тому же у них были гонщиками Прост и Сенна, а это уже
слишком.
У нас же партия Постлтуэйта интриговала против партии Барнарда, и вся Ferrari не
могла изготовить мотор, способный обороняться против Honda. Из-за нового ограничения
давления наддува в 2,5 бара имелись обширные возможности для толкования регламента,
и японцы мастерски умели это делать. Проще говоря: они получали больше мощности из
того же количества топлива, и если мы пытались держать их скорость, у нас кончался
бензин.
В 1988 году было 16 гонок, 15 из них выиграли McLaren-Honda, десять даже в виде
двойных побед.
В этой действительно позорной для Ferrari череде неудач, которые уже начали задевать
даже общеитальянскую гордость, было одно единственное исключение. Чудесное,
грандиозное исключение. Оно произошло в Монце, четыре недели после смерти Старика
и из-за этого получило почти мистическую возвышенность.
К половине гонки я вижу на информационном табло мою «28» на втором месте позади
«12», значит Прост сошёл. Смотри-ка, у McLaren технические проблемы. На какой-то
момент меня захватила кошмарная картина: если теперь у Сенны тоже будут проблемы, а
у меня закончится бензин, то выиграет Альборето — только этого мне еще не хватало, тем
более здесь, в Монце. Отрыв Сенны становится меньше, вопрос в том: он играет,
действует наверняка, или за последние круги он потратил слишком много топлива и
теперь серьезно задумался о нем?
Это нечто вроде шахматной партии на расстоянии с тремя игроками: я нагоняю Сенну,
Альборето нагоняет нас обоих. О чем думает Сенна? Иногда он теряет по три секунды на
круге: похоже он себя чувствует очень уверенно, но по тому, как проходит сезон, у него
есть на то все основания. До сих под бензин всегда заканчивался у нас, а не у McLaren. В
любом случае я еду так быстро, как только могу, за шесть кругов до конца из 26 секунд
отставания осталось одиннадцать. Но Альборето тоже только в 2,5 секундах позади меня.
Кошмар становится все явственней, не может такого быть, чтобы у моего коллеги
оставалось больше бензина, чем у меня. У меня все идет по плану, но я не знаю, как
обстоят дела у него. Он скорее в плюсе, а это значит, мне нужно держать его с меньшим
давлением наддува, это может быть непросто. Микеле на протяжении всех выходных был
довольно быстр, на тренировках ему не хватало только трех десятых, обычно же он
отстаёт больше чем на одну секунду.
Я уже давно не смотрю на указания из боксов, они слишком далеко, к счастью есть
большая информационная башня, она в поле зрения. Четыре круга, восемь секунд: я знаю
— может получиться, но с другой стороны, если я Сенну догоню, мне еще надо будет
обогнать, а это отдельная история.
Но так далеко я не задумываюсь: давить, поздно тормозить, не отпускать, только не
сделать ошибки, короткий взгляд в зеркало заднего вида. Где коллега? За последние круги
он не приблизился, значит, и у него вероятно, заканчивается бензин, народ вне себя, люди
висят на заборах, на деревьях, машут, наверное дико кричат, но я ничего не слышу, вижу
только перекошенные лица.
Еще два круга, чуть меньше пяти секунд. Стартовая и финишная линия, вход в шикану,
я вижу Сенну входящим в нее, затем вдруг поднимается немного пыли, внезапно жёлтые
флаги, что случилось? Абсолютная концентрация, притормозить, переключить на низкую
передачу, повернуть влево, кто это там стоит? На перебриках сияет красно-бело-красным,
желтый шлем, это Сенна, и он смотрит прямо мне в глаза. Справа впереди ковыляет
Williams.
На выходе из шиканы тоже желтые флаги, но мне кажется, ими размахивают от
восторга.
Разворот Сенны, вероятно он столкнулся с Шлессером, я ору в шлеме, не могу
удержаться от смеха. Почему? Я думаю о Эшториле: тогда развернуло меня, и я потерял
победу.
Монца взорвалась: везде флаги Ferrari, ты едешь как будто через туннель из жёлтых
флагов, только не сойди с ума, оставайся спокоен, смотри вперед, а не на флаги. Где
Альборето? 300 метров позади. Этого должно хватить.
Последние два круга я не забуду никогда в жизни. Я напряжен до последней клетки,
отчаянно пытаюсь не смотреть на бушующих слева и справа тифози, еще раз мимо
боксов, еще один круг. Последний круг указывается в десятых долях, на бензиновом
счётчика стоит «10», это отлично, полный круг, после Лесмо «5», Альборето еще немного
приблизился. На подходе к Параболике впереди плетётся еще один из медленных, на
скорости 270 км/ч остаётся максимум три десятых секунды на раздумье: обогнать перед
поворотом или лучше не рисковать и подождать до выхода из поворота? А если
Альборето будет тогда так близко, что окажется в моей аэродинамической тени? Лучше я
протиснусь перед Параболикой, еду очень осторожно, но к счастью тот, другой, тоже
внимателен, еще 200 метров, теперь я верю в победу, теперь, если что, я пересеку линию и
по инерции.
На финишной черте на моем бензиновом счётчике «1». То есть еще одну десятую круга
я бы смог ехать на полном газу, но для послефинишного круга хватит и так.
Последовавшие за этим сцены неописуемы. Залитый потом, у меня сверху до низу
мурашки, овации, фанаты прыгают через ограждения, стоят посреди трассы, танцуют как
дервиши, некоторые даже падают на колени на полотно дороги.
На церемонии награждения я как в трансе. Ты терпеливо все сносишь, растерян, так как
такой кипящий восторг ты не мог себе представить даже в самых смелых фантазиях.
Многие мечтают ездить в Формуле 1 за Ferrari, я сам был таким. Но только когда ты
выиграешь на Ferrari в Монце, ты поймёшь, о чем ты мечтал.
Если взглянуть трезво, то эта победа была подарком, ставшим возможным из-за схода
Проста и ошибки Сенны. Найджел Робак из английского “Аutosport” так сказал об этом:
“It was a present, but it went to the right man, at the right time, in the right place.” [Это был
подарок, но он достался правильному человеку, в правильное время, в правильном месте]
Американский писатель Брок Йетс сделал в своей великолепной биографической книге
«Энцо Феррари. Жизнь и легенда» (издательство Heyne)следующий вывод:
«Какая трогательная, гениальная, чудесная победа Ferrari на священной родной земле!
После пересечения финишной линии Бергер потонул в море красных, жёлтых и чёрных
флагов и воодушевлённых тифози. На одном из плакатов стояло «Феррари, мы следовали
за тобой при жизни, мы последуем за тобой после смерти». В избытке чувств от победы
Марко Пиччинини обьявил новую эру Ferrari. В этот короткий момент в Монце бурлящие
массы были абсолютно уверены, что стали свидетелями возрождения. Для команды
Honda, которая в этом сезоне не подвергалась даже опасности, не говоря уже о
поражении, эта победа Ferrari представляла определённую угрозу — даже если
следующие два года она безраздельно правила в гоночном спорте. Возможно, Пиччинини
и был прав в своем видении новой эры, но даже в этом случае она стала бы
незначительным переизданием старой эры. Ведь последний из великих титанов
автоспорта, Энцо Феррари, ушел навсегда. Никто не сможет занять его место.»
На самом деле сезон 1988 был полон унижений, и Монца стала единственным, хотя и
грандиозным, проблеском. Как бы то ни было, эра турбо подходила к концу и Джон
Барнард уже два года работал над атмосферником для 1989 года.
Оставалась еще одна самая последняя турбо-гонка, Гран-при Австралии в Аделаиде. О
повторении прошлогодней победы я мог забыть, для этого у нас было слишком большое
отставание от Honda по горючему, а в чемпионате мое место было уже гарантировано
(третий после пары McLaren-Honda Сенны и Проста). У Альборето тоже не было никаких
перспектив (пятый в чемпионате и он знал, что в Ferrari его заменит Мэнселл). В команде
тоже не было ничего нового, так что мы решили, что помчимся сразу вперёд, устроим
хорошее шоу, пока у нас просто не закончится бензин и потом мы полетим домой. Такая
«тактика», конечно, оставалась в тайне, пока что.
Как бы то ни было, мне удалось благодаря ей заказать идеальный рейс в Европу, на
который в нормальных обстоятельствах я бы ни за что не попал.
После квалификации я повстречал своего приятеля (и кровного брата в том, что
касается скандалов и хулиганства) Барри Шина. Барри был легендарный английский герой
мотогонок в восьмидесятые годы, потом он переехал в Австралию и работал ведущим на
«Channel Nine», то есть том телеканале, который делает самые лучшие спортивные
репортажи в Австралии. Барри хотел подготовиться к своему завтрашнему комментарию
и спросил меня, как я думаю, закончится гонка.
«Я заказал вертолёт на 2:45, тогда я как раз успею на рейс Lufthansa»
«Но ведь гонка заканчивается только в...»
«Именно»
Так мой друг Барри смог зарекомендовать себя великим прорицателем, настоящим
«своим человеком». Специалисты говорили о матче “Прост против Сенны”, только Барри
Шин сказал: «Я ставлю на Бергера, он в лучшей форме своей жизни и задаст необычйный
темп, и меня не удивит, если он даже сможет настичь превосходящих McLaren-Honda...»
Из тех, кто стояли на старте впереди меня, о плане знал только Алан Прост, ему
сообщил обиженный из-за своего увольнения Альборето. Но в начале мне было
необходимо победить Айртона Сенну, который не мог понять что происходит, когда уже
на втором круге в его зеркалах заднего вида появилась Ferrari. Для зрителей это было
великолепное шоу, мы провели отличную схватку, однажды даже коснулись друг друга
колесами. Когда я его обошел, мне пришлось гнаться за уехавшим между делом вперед
Простом, и это стало снова отличным представлением для публики. Во время обгона Алан
не пошевелил и пальцем, наверняка он ухмылялся, когда я пролетел мимо, как молодой
бог.
Затем я проехал несколько кругов в полную силу, просто улетая от остального пелетона
и начал уже потихоньку задумываться о своем авиабилете. Что бы мне устроить
напоследок?
Я догонял две обойдённые на круг машины, передняя из них была синяя Ligier Арну.
Это то, что мне нужно, так как Арну был один из самых безбашенных гонщиков Формулы
1, один из тех, кто никогда не смотрит в зеркала и постоянно путается под ногами. Итак, я
обогнал первого и заодно сразу Арну, очень смелым маневром и при этом заднее колесо
Ligier оказалось на пути, маленькое столкновение, конец. До глубины души
разочарованный Герхард Бергер, великолепно лидировавший в Гран-при Австралии,
отказался давать комментарии. Немедленный отъезд от разочарования, мы видим как
пилот Ferrari садится в вертолёт, но эта гонка молодого Герхарда Бергера останется
для нас незабываемой, я ведь говорил вам, дамы и господа, он себя покажет... Барри Шин
на Channel Nine.
Моим новым партнером по команде на 1989 год стал Найджелл Мэнселл. На шесть лет
старше меня, почти что “авторитет”. Поскольку я уже свободно перенес Альборето,
который считался очень быстрым гонщиком и имел большую политическую силу в
команде, у меня не было страха и перед Найджелом. Наоборот, я думал, что мы могли бы
стать хорошими друзьями, поскольку как человек он мне очень нравился. Кроме того,
хлопоты, которыми он окружал свою семью, выглядели поначалу весьма симпатично и
душевно. Позднее, правда, мне стало действовать на нервы, когда он устраивал излишние
представления и каждый успех кому-то “посвящал”, рассказывая при этом елейные
истории.
В действительности оказалось, что Мэнселл был исключительным индивидуалистом и
недоверчивым малым, в полную противоположность своим открытым и дружелюбным
манерам. Хотя это несколько разочаровывало, но, в общем, подходило мне, кроме того, я
был слишком беззаботен, чтобы беспокоиться о внутренней иерархии. Кроме того,
Мэнселл уже пережил работу с такими людьми, как Пике, он был кем-то вроде «старого
коня».
После смерти Старика FIAT все сильно перемешал в Ferrari. А ведь мы были на
правильном пути (с “техническим” гоночным боссом по имени Каппелли), но затем
перемешали еще раз, в неправильную сторону (с “тактическим” гоночным боссом Чезаре
Фиорио). Новая машина Джона Барнарда была действительно гениальна, но к
повседневной работе относились уж очень спустя рукава, кроме того, у нас была одна
проблема касательно мотора, которая, несмотря на полностью новые условия, звучала както
знакомо: и в лиге 3,5-литровых атмосферников Honda были сильнее.
Сезон 1989 года начался этой необычной гонкой в Рио. На тренировках ничего не
работало, у нас были протекающие моторы, порванные клиновые ремни, сошедшие с ума
генераторы, а боксы Ferrari выглядели как игра-«конструктор» электрической схемы. Ни
Найджел, ни я не проезжали больше пяти кругов подряд. Все было столь плохо, что
Фиорио раздумывал, стоит ли нас полностью заправлять. С полупустыми баками мы
могли хотя бы создать впечатление быстроты…до неизбежного схода.
В конце концов, мы стартовали вполне обычно и серьезно, и я впутался в то, что позднее
Лауда назвал “дурацким столкновением”: жесткое состязание с Сенной, в котором никто
не уступил, и я сошел. Я упаковал в боксах свои вещи и ждал, когда же, наконец, машину
Мэнселла закатят внутрь, но он продолжал ехать дальше. Когда позднее у Проста
возникли проблемы, Найджелл выиграл Гран-при – свою первую гонку за Ferrari!
Я был бы ужасным лицемером, если б сказал, что это меня обрадовало – из-за Ferrari и
командного духа и так далее. Если честно, в нашем спорте нет ничего более важного, чем
превзойти собственного коллегу по команде. Прежде всего, нужно сломать собственного
партнера. Вся болтовня о том, что “Главное – победила команда”, не что иное, как чепуха.
Ты желаешь ему по возможности грандиозной поломки двигателя или, еще лучше, чтобы
он вылетел, конечно же, безболезненно, все действительно имеет границы. Факт в том,
что ты улыбаешься во все лицо под шлемом, если он влетает в шинный барьер. Только
преодоление собственного коллеги освобождает путь наверх, поэтому, если ты радуешься
его успеху – это притворство.
А у меня теперь впервые был коллега, за которым нужен глаз да глаз. Он был не только
сильным и быстрым, но ему еще и посчастливилось такое сенсационное вступление в
должность.
Всем этим я не хочу сказать, что попал в самую тяжелую аварию в жизни из-за
излишнего бойцового духа. Ни в коем случае, причиной была поломка переднего
спойлера. По случайности, в особенно плотной фазе поединка: вторая гонка 1989 года,
Гран-при Сан-Марино в Имоле.
После старта раздумывать не о чем: я должен был побыстрее пройти Williams
Патрезе, чтобы Мэнселл не ушел в отрыв. В шикане перед линией “старт-финиш” я
торможу совсем близко к Williams, рано жму на газ, чтобы остаться вблизи него,
остаться за спиной, в “воздушном мешке” - в конце следующей прямой я хочу его пройти.
Легкий изгиб влево после боксов я прохожу чуть по-другому, чем обычно, не “серединавнутрь”,
а чуть более наружу, чтобы уйти от воздушного вихря за Патрезе и иметь
прижимную силу.
Я поворачиваю влево, в этот момент начинается безумная вибрация спереди справа, я
пытаюсь повернуть, машина не слушается, пробую еще раз – безуспешно. Нажатие на
педаль тормоза практически ничего не дает, я вижу перед собой стену, надо еще
посмотреть, не удастся ли немного изменить угол удара. Пробую еще, опять не
получается. Теперь все остальное бесполезно, и тогда я убрал руки с руля, положил их на
плечи и стал ждать.
В больнице я уже знал все. Дистанция до стены показалась мне довольно большой (я был
ужасно испуган, когда на следующий год увидел, какой смехотворно короткой она была
для машины на скорости 280; и если дальше подумать и начать подсчеты: в секунду ты
пролетаешь 80 метров, здесь до стены было, может быть, 40 метров, т.е. полсекунды). Что
могло тогда происходить в голове: дерьмо, впереди сломалась подвеска, нет, впереди она
не сломалась, но колесо в воздухе, значит, что-то сломалось сзади слева, а потом попытка
-может быть, получится еще немного добавить угол поворота. В моей памяти, правда, не
было замедленного протекания процесса, наоборот, самым важным впечатлением была
убийственная скорость, но, тем не менее, все эти мысли смогли как-то разместиться.
К этому еще некоторые телодвижения, которые ты можешь сделать – убрать руки с руля,
это ни в коем случае не рефлекс, скорее заученное преодоление нормального рефлекса
(известно: ты сломаешь себе кисти и руки при столкновении); я был позже горд, что в
первый раз сделал это правильно.
Затем правильным было бы еще перемещение затылка и шеи, но этого я не сделал: при
развороте, когда ты замечаешь, что едешь задом, прижимаешь голову назад до упора,
чтобы защитить затылок. В этот раз после первого удара меня закрутило, и когда
произошло второе столкновение, голова была напряженно наклонена вперед, поэтому и
случился такой удар затылком.
Тому, что я пережил аварию, я обязан быстро проведенным спасательным работам, но
прежде всего – действительно невероятной прочности углеволоконного монокока и
конструкции Джона Барнарда. Поворот Tamburello проходится на 280 км/ч, и о помощи
тормозов на последних метрах можно даже не говорить, так что удар в бетонную стену
произошел на скорости далеко за 200 км/ч.
Джон Барнард – это фанатик безопасности Формулы 1. Позднее он расскажет: “Я думал,
что мой мир рушится. Я знал, что Герхард не делает ошибок в этом повороте, и если
потом ты видишь машину, а гонщик еще внутри, и он не шевелится, то у тебя внутри все
рушится. Это, должно быть, дефект в автомобиле, и ты думаешь только, Господи, может
ли быть, что я при конструировании сделал что-то такое, о последствиях чего не подумал?
Если пилот в одной из моих машин получает тяжелые ранения или даже погибает, и
причиной была бы ошибка в конструкции, то я должен был бы немедленно прекратить
свою деятельность. Такой дефект придал бы мне чувство полной несостоятельности”.
В этом отношении я могу его на самом деле успокоить: если ты на скорости 280 км/ч
въезжаешь в стену и впоследствии получаешь только синяки на ногах, то конструктору не
в чем себя упрекнуть. С другой стороны, кое-что говорит о том, что причиной аварии
была деталь конструкции.
На моей Ferrari передний спойлер сломался внутри в корневой части, тем самым машина
осталась без прижимной силы впереди и стала неуправляемой. Боковые крылышки в
соответствии с тогдашним регламентом должны были быть абсолютно жесткими,
скручивание их не допускалось. Это означало, что нагружался весь спойлер, если боковые
пластины касались бордюрного камня. То, что вся штуковина поэтому может сломаться,
было понятно, поскольку углеволокно не может гнуться. С другой стороны, это наша
повседневная работа – с грохотом переезжать бордюры и подвергать переднее антикрыло
постоянным ударам, так что нельзя, чтобы из-за этого сразу угрожала катастрофа. Если же
в одном из тысячи случаев все-таки она и происходила, это означало, что что-то пошло не
так.
Во всяком случае, спортивные чиновники также отреагировали на мою аварию: с этого
момента боковые плоскости антикрыла не должны были быть жесткими.
Пожарные были на месте молниеносно. Хотя пламя полыхало очень сильно, но
источником его был только тот бензин, который находился в трубопроводах; безопасная
конструкция бензобака замечательно выдержала.
Сид Уоткинс, знаменитый главный врач Формулы 1 и ее настоящий ангел-хранитель, был
едва ли не через минуту на месте происшествия. Он констатировал: “Пожарные как раз
погасили пламя. Бергер еще сидел в машине. Ситуация выглядела угрожающей,
поскольку трава вокруг выплевывающего топливо Ferrari была пропитана бензином.
Пожарные и я извлекли Бергера из автомобиля. Я открыл забрало и констатировал
наличие дыхания. Его ремень был очень туго затянут, так что у нас были проблемы с его
разрезанием. В этот момент он очнулся и начал сопротивляться нашей помощи. Мне тогда
показалось, что он вырвется и убежит прочь от своих спасителей. Я навалился ему на
грудь, а два пожарных держали ноги, что сделало его небоеспособным”.
Я противопоставлю профессору, который за эти годы стал моим хорошим другом, свою
версию происходившего:
Я чувствую укол и просыпаюсь. Где я? В отпуске. Я в отпуске. Нет, я не в отпуске. Ктото
хочет засунуть что-то мне в рот, а я не хочу, я боюсь задохнуться. Защищаюсь.
«Лежи», говорит кто-то по-английски, «не двигаться. Ты попал в аварию.» Мой шлем
всегда тяжело снимается, я это знаю. Он еще на мне? Мне это неизвестно. Я смотрю
на руки, перчаток нет. Пузыри, кожи нет, видно мясо. Все болит. Я не могу
пошевелиться. Патрезе…Я хотел его обогнать. Потом я, видимо, и потерпел аварию.
Безумно болит спина, все, наверное, обгорело. Никогда больше не сяду в такую машину.
Все это не нужно. С жизнью не играют.
Мой отец уже ждал в маленьком госпитале в паддоке. Он говорил позже, что мое первое
предложение было: “Со мной нормально, но в такую дерьмовую тачку я больше не сяду”.
Повреждения были прямо-таки смехотворны, учитывая тяжесть аварии: ожоги на руках,
трещина в грудине, сломанное ребро (которое, впрочем, сломалось от решительных
действий Сида Уоткинса, во всяком случае, так думал он сам).
Хайнц Лехнер и Вилли Дунгль сенсациооно взялись за мои ожоги, и я был вынужден
пропустить только одну гонку. Я и раньше не был чудом физических кондиций, теперь
этот недостаток стал еще больше, и я хлебнул горя в гонках с Найджелом Мэнселлом (не
говоря уж о Сенне и Просте, которые на своих McLaren были в собственной лиге).
Найджел был подобен медведю и гораздо лучше справлялся с невероятными усилиями на
управлении, которые требовались на тогдашних Ferrari. Кроме того, Ferrari переживала
потрясающую серию поломок, и в одиннадцати последующих гонках я не заработал ни
одного очка в ЧМ.
У меня снова возникло чувство: время пролетает мимо меня. Сможет ли Ferrari
производить надежные гоночные машины и когда это произойдет, знала только судьба.
Тем временем совершенно конкретной стала дикая внутрикомандная война в McLaren
между Аленом Простом и Айртоном Сенной. Как бы она ни кончилась, Прост в 1990 году
уже не будет сидеть в автомобилях McLaren. Для Рона Денниса я был однозначно первым
в списке, и мы уже несколько недель были в стадии скрытых переговоров. Я аннулировал
свой опцион на последующие три года в Ferrari.
И с середины сезона было ясно: Алан Прост и Герхард Бергер поменяются местами.
Хотя Ferrari логично было поставить все на Мэнселла, я постоянно улучшал свою езду.
Перед этим Найджел показал себя во всей красе: победа в Венгрии. Мне достался сладкий
реванш в Эшториле. Это была та странная гонка, где я вначале улетел от всех, слишком
сильно износил шины и вдруг обнаружил себя сражающимся с Мэнселлом. Он проехал
при остановке в боксах свою позицию и воспользовался задним ходом. Черный флаг
связанной с этим неизбежной дисквалификации он проглядел или действительно не видел.
Последующее столкновение дало толчок фантазии астрологов от Формулы 1: Мэнселл
«отбуксировал» Сенну и себя с трассы, к огромной выгоде лидировавшего в ЧМ Алена
Проста.
Для меня победа в Эшториле поставила вопрос, а не намеревался ли я в неудачный
момент времени покинуть правильную команду? Но этот вопрос, следует подчеркнуть,
был постоянной темой в моей карьере.
Езда на автомобиле
А что происходит в сердце, в голове, в душе?
Меня спрашивали тысячу раз: Герхард, что ты ощущаешь при езде на гонках? И я все
время давал ответы, которые по настоящему никому ничего не обьясняли.. Никто не
хотел слышать, что все крутится только вокруг работы.
Это действительно так и есть: работа покрывает все, даже те чувства, которые
совершенно естественно выросли на плодородной “почве” заядлого автогонщика. Но это
не значит, что этих чувств больше нет.
Мне нужно только очистить их от скорлупы невероятного напряжения выходных Гранпри.
Возвышенное и банальное здесь вполне могут находиться рядом. Так, как боевой дух
и полуденная усталость гонщика.
Обратный отсчет.
Все равно я по-настоящему хорошо не сплю во время гоночного уикэнда. Кроме того, в
шесть часов нужно покидать постель. Перед этим еще и Гарри, у которого есть второй
ключ, заходит в комнату. Гарри Хавелка будит меня, так сказать, массажем активных
точек на ногах. Ничего специального здесь не имеется в виду, просто общая стимуляция.
Принять душ и - вперед, на трассу. Завтракаем на техническом совещании команды в 7:30,
тут Гарри приносит мне чай из ромашки и два тоста с джемом. Потом я иду в моторхоум,
надеваю правильное нижнее белье и жду уорм-ап. Он начинается всегда с установочного
круга, после чего быстро проверяются новые детали.
Уорм-ап длится полчаса, потом сразу же проводится второе техническое совещание: ты
высказываешь свои впечатления о машине и трассе. Инженеры заняты соответствующими
доработками с помощью данных телеметрии и проверяют окончательные настройки. Нас
забирают на брифинг гонщиков. Это длится четверть часа, руководитель гонки еще раз
останавливается на особенностях трассы и говорит, что мы не должны придираться друг к
другу. Все гонщики запрыгивают на грузовик, их везут по трассе, они машут
болельщикам. Потом сразу обратно в команду. Самое последнее техническое совещание.
Сколько пит-стопов и все такое. Полдень, и я по-настоящему устал. По мне, так день бы
мог уже кончиться.
Я уютно устраиваюсь в уголке моторхоума и сразу засыпаю. Просыпаюсь в 13:15, будучи
совершенно разбитым.
Теперь!...
Гарри сервирует мне маленький эспрессо, к нему несколько горьких капель, это домашние
капли Montana, чтобы кофе не раздражал желудок. Потом наступает очередь моего
вонючего японского масла, но Гарри говорит, что, если этот запах нравится, то кажется,
что оно не вонючее, а просто сильно пахнет мятой. Оно освежает и охлаждает, тело
чувствует себя как комната, в которой ты распахнул все окна.
Разбитый ворчун (это такое типично южно-немецкое слово) за 15 минут превращается в
злобного, хорошо подготовленного бойца. Затем основные группы мышц обрабатываются
аэрозолем; я чувствую это, как замораживание, но это просто охлаждающий спрей из
Италии, который впитывается через кожу и действует как превентивное болеутоляющее.
Поэтому, по крайней мере, в течение первого часа гонки я не буду чувствовать мышечную
боль в шее, спине, области таза. Я вывожу автомобиль на стартовую решетку, еще раз иду
по малой нужде, прыгаю на обратном пути через бетонное ограждение. Начинается…
ялами, во времена BMW: как он проходил через этот холм на трассе! Сначала было
только черное облако -моторы тогда настраивались на изрядно богатую смесь горячий
воздух и горячие турбокомпрессоры производили в воздухе совершенно
К
особенное мерцание, при этом еще ничего не было слышно, турбомоторы были
существенно тише атмосферников, и машину тоже еще не было видно, только искажения
в воздухе. Было ясно, что сейчас что-то будет, и потом вдруг появлялся нос Brabham –
Пике с громом 1200 л.с. пролетал мимо, действительно с громом, это едва можно было
выдержать, так это было прекрасно.
онако, наши дни: квалификация. Все смешивается: езда на машине, Монако,
суматоха и сумасбродство, шоу и место, где ты получаешь оценки не только за
время прохождения круга, но и за красоту исполнения -кто раньше нажимает на
М
газ, кто нежнее «облизывает» отбойники, кто круче всех ныряет в направлении бара «ТипТоп
». В решающий момент, хотя ты и не будешь думать о жюри, которое дает оценки, но
не будешь и об инженерах на телеметрии, которые после этого показывают на свои
зазубрины и говорят: “посмотри на это безобразие”, но, так или иначе, накапливающееся
безумие запрограммировано заранее, оно у тебя внутри.
Ты выходишь из “Сан-Девот” вверх, на длинную прямую к казино.
Подъем заканчивается большой неровностью, и у тебя есть выбор, либо ты сбрасываешь
газ сразу перед ней, либо нет, то есть поворачиваешь в направлении виража “Казино” на
скорости 250, тормозишь и ставишь машину боком, и все одновременно. Если ты за пару
метров до этого убрал ногу с газа (правильно? -правильно. тоже южно-немецкий
диалект :-))), то все получается гораздо красивее и чище, но на телеметрии они увидят, что
что ты наложил в штаны, кроме того, это что-то вроде борьбы за власть с машиной,
проверка, можешь ли ты еще удержатся на гребне волны.
Несмотря на сильные прыжки, тебе надо дальше действовать чисто, поскольку первая
часть виража “Казино” – это, так сказать, прелюдия к большому выступлению, и если ты
в начале что-то сделаешь не так, из процесса коррекции вообще не выйдешь. Итак, на 4-й
передаче очень чисто и нежно «облизываешь» левый изгиб, находишься как можно
дольше снаружи, так сказать, в воротах отеля «Де Пари». Это идеальное место, чтобы дать
полный газ, войти так в правый поворот, чтобы пробуксовали колеса, таким образом, ты
можешь, находясь в самой наружной части поворота рядом с отбойником, все еще не
сбрасывать газ и пройти поворот с полным сносом колес. Крошечное движение рулем
ставит нос машины прямо, и ты на полной скорости устремляешься под горку к «ТипТоп
». (Нормально. Не недооценивай себя :-))
Бывает ли когда-нибудь, что звук мотора пробуждает в тебе какие-то эмоции?»
«Обычно нет».
«А вне гонок?»
«Бывает»
«Например?»
«Если новый гоночный мотор Алези впервые запускают, я сижу на стенке в боксах и
говорю, ух ты, звучит чертовски хорошо, и мой гоночный инженер говорит, да, я слышу
то же самое. Тогда я думаю, черт возьми (сойдет перевод Scheisse? •
-сойдет. Если
буквально перевести то очень уж грубо по русски звучит .) , парню счастье привалило».
Это введение к разделу «Звук и эмоции».
Поиск чувственных моментов, которые действительно западают мне в душу, с течением
времени становится все труднее.
Неизменно классным является запуск и прогрев двигателя. Злое «вуфф-вуфф» от нажатий
на газ, которые поднятый на подставках мотор (Murl ?– это тоже типично австрийское
слово. Такая большая мурчащая кошка, типа тигра или там пантеры.)) получает от
компьютера, все еще вызывает зуд в животе. Кроме того, раньше было чудесное единство
шума и запаха: машины прогазовывались, все пахло гоночным маслом, оно капало на
горячий металл и там сгорало. Даже холодный нагар имел свой собственный запах.
Сегодня нет масел, которые пахли бы автоспортом так, как мы в то время ощущали
носами и знали: здесь мы дома.
Звук двигателя сам по себе, как и раньше, волнующ, но только как окружение, среда. Звук
собственного двигателя остается только в виде этакой шумовой оболочки, вместе с
сопутствующими вибрациями. Есть немного нюансов, которые приносят удовольствие,
прежде всего похожее на пулемет стаккато при переходе вниз на три или четыре передачи.
Уничтожающий гонщика в обычных условиях шум собственной машины становится
переносимым благодаря берушам (Вообще в моем представлении беруши это такие
пушистые большие наушники, какие девушки зимой носят или в горах. Но тебе виднее
.), и если ты сверху еще надеваешь шлем, то ощущаешь только глухое гудение и
вибрации. Гоняться без защиты органов слуха – значит, рисковать стать глухим.
Гран-при Канады 1989 года, Монреаль, я в Ferrari стою во втором стартовом ряду, впереди
Прост и Сенна на McLaren. Трехминутный сигнал, две минуты, я надеваю шлем, одна
минута, зеленые флаги, разрешающие прогревочный круг, мой двигатель запускается, и у
меня сразу возникает странное чувство. Что-то не так, я трогаюсь, и после первого
поворота понимаю: я забыл беруши.
Шум мотора уже на прогревочном круге настолько пронзителен, что было бы абсурдным
полагать реальной возможность выдержать всю гонку на боевой частоте вращения. Не
говоря уж о том, что остаток своей жизни я буду глухим.
Заезжать в боксы? Вставить беруши и стартовать последним из боксов, вслед за
пелетоном? Страшно подумать, что я выслушаю тогда от Фиорио! Да я буду выглядеть
последним дураком!
Так что я обычным образом выезжаю на стартовую решетку, газую «вумм-вумм-вумм»,
жду красного сигнала светофора, и, пока он еще не сменился на зеленый, поднимаю руки.
Это знак какой-то проблемы в машине, который должен привести к отмене старта,
поскольку может существовать опасность, что сзади стоящие машины въедут в мою.
Мотор я, конечно, заглушил.
И действительно, директор гонки показывает красный флаг. Отмена старта. Все механики
бегут к своим автомобилям, конечно, особенно много бежит к моей, думая, что возникла
огромная проблема. По радио я не могу ничего сказать, связь прослушивается. Когда
первый механик спрашивает меня в шлем, что случилось, я отвечаю, заводите спокойно
мотор и дайте мне каким-нибудь умным способом пару берушей.
Нужно быть внимательным, поскольку все смотрят на меня и мой автомобиль. Но
времени достаточно, поскольку до повторного старта все гонщики выбрались из машин, и
была дана задержка 10 минут. Эта задержка была и для 96 телестанций и 400 миллионов
зрителей тоже, потому что господин Бергер, к сожалению, забыл свои беруши.
Механики Ferrari переместили свою активность к двигателю, открыли капот и стали
суетиться вокруг. Я забрался на стенку, отделяющую боксы, между делом кто-то сунул
нечто мне в руку, и так я смог, наконец, вставить себе беруши.
Вспоминая об изысканных шумах, я наталкиваюсь на мысль о 12-цилиндровых моторах
Ferrari (до 1995 г.), которые на некоторых оборотах могли производить совершенно
особую, благородную звуковую окраску, еще более «рычащую», чем другие «жеребцы», и
особенности этого рычания можно было почувствовать даже под шлемом и в берушах.
Вспоминая дальше, я опять обращаюсь к турбомоторам (до 1988 г.):
Они грели душу не только снаружи, например, когда Нельсон Пике проходил вершину
холма в Кялами, чувства при езде тоже были интенсивней, чем с атмосферным мотором.
Шум в целом, грохот плюс вибрации, были хотя и меньше, чем сейчас, но ведь и
использовались намного меньшие числа оборотов. При этом его свист обладал
ядовитостью, которая подстегивала.. Звук «фффффф»1,5-литрового турбомотора имел
больше агрессивной мощи, чем любой шум 3,5-литрового атмосферного двигателя.
амое разочаровывающее поле для восприятия – чистая скорость. Для настоящего
гонщика Формулы 1 здесь нечего романтизировать: скорость – это рабочая
функция, и в этом нет ничего захватывающего, безумного или страстного. С Скорость стала настолько рутинным делом, что разницу между 120 и 320 км/ч я могу
объяснить только как зубец на распечатке данных телеметрии. Скорость – это рабочая
среда, такая же нормальная, как письменный стол для чиновника.
Один журналист не удовлетворился этим и говорит: Все-таки у гонщика должно быть
что-то типа переключателя замедленной съемки, у вас же происходящее идет совсем с
другой скоростью, чем у нас, если бы мы приближались к концу прямой со скоростью 300
км/ч.
На это я отвечу: существенное отличие талантливого гонщика от нормального человека –
это основы поведения. Все остальное – это только привычка. Лучше, чем у
нетренированного, синхронизированы восприятие и реакция, но поэтому шпилька и не
приближается ко мне в режиме замедленного показа. Есть совершенно обычный эффект
автобана: если два Porsche движутся по автобану друг за другом на скорости 220, ни один
из них не будет воспринимать другого захватывающе быстрым, и у него будет достаточно
резервов для правильной реакции на любой маневр другого (если только тот не сделает
что-нибудь идиотское, типа нарочного торможения).
Кроме того, “эффект замедленного показа” мне знаком только по ситуациям, которые и
для меня были экстремальными; в этой книге много мест, где я об этом говорю.
С ускорениями у гонщика такие же отношения, как и со скоростью: чрезвычайное не
описывается красивыми словами. С нуля до ста за 2,5 секунды, тебя сплющивает, не
хватает воздуха, ты боишься, что мозги вылетят вместе с выхлопом…но если переживешь
это тысячу раз, будешь считать нормальным.
Когда я в 1997 году из-за болезни был вынужден пропустить три гонки и затем приехал на
первые тесты в Монцу, я был просто очарован ускорением автомобиля, которое просто не
хотело заканчиваться. Я по-настоящему увлекся, сначала даже предъявлял чрезмерные
требования. Но через полдня я сказал нашему двигателисту: “Смотри, на 14.300 есть
провал, и при 16.000 не ведет себя оптимально”. Я снова чувствовал тонкости вроде 5 л.с.
в ту или другую сторону.
то касается остроты ощущений при вождении автомобиля Формулы 1, то,
несомненно, “бомбой” здесь является торможение. Дело заходит так далеко, что Чдаже опытные пилоты получают мозговые проблемы.
Тормозные пути, достигаемые с современными карбоновыми тормозами, в человеческом
представлении просто не укладываются, несмотря на все тренировки. Тормозной путь не
имеет ничего общего с твоим опытом, это просто математическая величина, в которую ты
должен верить, каждый раз в новую. Ты должен себя постоянно преодолевать, поскольку
глаза и мозг всегда говорят: ЭТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
При этом торможение сегодня – единственный элемент, где ты действительно еще
можешь улучшить свое время. Урвать пару дополнительных десятых секунды означает не
что иное, как изменить точки торможения.
На выбранную точку полагаются настолько, что в случае неожиданных изменений
ситуации остается немного возможностей на исправление ошибок
Я участвовал в 1994 году на Гран-при в Эшториле, и на следующий день снова
начинались тесты Ferrari, прямо с утра. Я был наполовину сонный, не ехал в полную силу
на противоположной прямой, но 250 км/ч тем не менее было, ехал, ехал и ехал и вдруг
очутился, не тормозя, в середине поворота и, естественно, вылетел в “пески и прерии”.
Потом я подумал: а что, собственно, сейчас произошло?
Транспаранта Marlboro, который висел все выходные, больше не было, и таким образом,
исчезла и моя точка торможения…по крайней мере, в моем заспанном состоянии.
Другой случай, когда я еще не очень хорошо соображал, произошел в несчастный 1994
год. У нас, напуганных авариями в Имоле, открылись глаза, и мы панически
воспринимали некоторые возможные опасные места. Например, в Барселоне было одно
такое, где при вылете можно было с высокой вероятностью погибнуть. Я очень много
сделал для того, чтобы там ввели шикану. Даже FIA не было в восторге от этого,
поскольку сделать можно было только silly chicane [глупую шикану], т.е. тему для
неуклюжей езды на первой передаче, которая погасит весь пыл прохождения
предыдущего пассажа на пятой. Это плохо для шоу, плохо для зрителей, плохо для стиля
езды, но мы были действительно озабочены тем, что касалось безопасности, и я стоял в
самых первых рядах.
Мы получили то, что хотели, в особенности я: мощную шикану в самом быстром месте
барселонской трассы.
Первая тренировка на переделанной трассе, усердный Бергер в самую рань первый
выезжает из боксов. Я думаю, прибавь-ка, чтобы взбодриться, и давай на полном ходу в
поворот, который проходили на пятой передаче, но оказалось, что после него теперь нет
прямой, а есть так срочно понадобившаяся мне шикана. Конечно, у меня нет ни доли
шанса попасть в поворот, я перелетаю через бордюр, «кошу траву» на газоне, трясусь по
грязи и так объезжаю шикану с наружной стороны. И, поскольку моя машина была на
трассе единственной, все камеры были направлены на меня, и все смотрели на меня
вживую на мониторах в боксах. Когда я вернулся, улыбка у всех была до ушей.
Вернёмся к тормозам. Сам по себе этот процесс уже не имеет больше ничего общего с
плавным маневром — забудьте о «наслаждении» от гонок. Ногу с газа, перекинуть на
тормоз, переключиться на низкую передачу и повернуть руль — все это сливается в один
единственный насильственный акт, происходит одновременно и жестко.
В первый момент я могу полностью выжать педаль, как при торможении с
антиблокировочной системой (в формуле 1 АБС запрещено), потому что на скорости 300
км/ч у меня сумасшедшее сцепление с дорогой благодаря аэродинамической прижимной
силе. На скорости 150 км/ч оно уже значительно меньше, а при 60 км/ч действие
аэродинамики почти сходит на нет. Так меняется сцепление с дорогой, и соответственно
мне надо изменить силу торможения. Несмотря на все усилия, в середине этого маневра
требуется максимальная чувствительность. Искусство торможения — это вероятно самое
важное качество, которое должен сегодня иметь гонщик Формулы 1.
С этим связанна также огромная работа над настройками. Существуют тормозные
диски различной толщины и состава и за одни выходные тормозные цилиндры меняются
по три или четыре раза. Например, я могу выбрать такие настройки, чтобы исключить
блокировку во второй фазе, однако тогда мне не хватит сил на полное торможение. Таким
образом, надо скорее исходить из оптимального действия тормозов в первой фазе и для
остатка искать лучшее сочетание между настройками и собственной чувствительностью.
В общем, сложная история.
В любом случае замедление при торможении происходит так быстро, что пальцы не
успевают переключить скорости.
Возьмем для примера максимальную скорость, шестая передача на входе в «шпильку»:
на момент полного торможения мне нужно поймать правильные обороты для пятой
скорости. В наши дни мотор хотя и невозможно больше перекрутить, но он просто
отказывается переключать скорость, если обороты слишком высоки. Переключение
запрограмированно на 17000 об/мин или ниже, а если попробую при 17300, то просто не
смогу: он меня не пустит. Но если в этой фазе мотор не будет тормозить, ты не
справишься, то есть затормозишь слишком поздно и будешь посреди всего лихорадочно
снова переключать на пятую скорость при правильных оборотах.
В наши дни указатели числа оборотов на дисплее в кокпите используются только на
тестах и тренировках. В гонке я полагаюсь при переключении на более высокую передачу
только на красные огоньки: первый сигнал за 300 об/мин, второй на границе ограничителя
оборотов. При первом переключении вниз мне приходится полагаться только на
собственные чувства. В дальнейшем пальцы, нажимающие на переключатель, просто не
могут поспеть за торможением, поэтому я не могу выбрать не ту скорость, а должен
просто считать, что в нашей семискоростной коробке передач было очень не просто, ведь
все происходит за сотые доли секунды. Чтобы иметь ориентир, я установил на дисплее
указатель третьей скорости.
Отдельная история — это торможение в быстрых поворотах. С тех пор как у
большинства машин осталось только по две педали (сцепление электрическое, с помощью
рычага на руле), почти все гонщики тормозят левой ногой. В Benetton были проблемы с
расположением педалей, и при обычном сцеплении я использую левую ногу только для
классического «левого» торможения, то есть если правая нога одновременно остаётся на
газу. Тормоза «”прижимают машину к земле», опускают нос, скажем, на два миллиметра
ниже, влияют на аэродинамику и таким образом на сцепление с дорогой, то есть
стабилизируют поведение машины в быстрых поворотах.
Другими словами, с помощью «левого» торможения я могу менять центральную
прижимную силу, созданную аэродинамическим днищем. Я так делаю в очень быстрых
поворотах, которые немного не дотягивают до полной скорости, как, например, в левом
вираже стартовой прямо «Сузуки», перед шиканой.
Из многочисленных сил в гоночном спорте для меня есть еще два особенных друга,
которые играют роль в том, чтобы выходные были приятными: центробежные силы и
усилия на рулевом управлении.
Пытаться сопротивляться собственным телом против центробежных сил бессмысленно
изначально. Давление изнутри тебе в любом случае приходится выдержать, поэтому ты
пытаешься дать центробежным силам вести свое тело как единое целое. Значит, каждый
его кусочек должен найти опору: руки на руле, туловище пристегнуто ремнями, таз и
ребра на сиденье, шея и голова на специальных пористых колодках на боковых стенках
кокпита.
С другой стороны, нет никакой помощи при поднятии ног (не только в «Красной воде»
в Спа) и наклоне внешнего колена в повороте. Но самое жестокое воздействие
центробежных сил испытываешь при торможении: провисаешь на ремнях, как будто
вмазался в стену.
Борьба с усилиями на руле тоже сильно зависит от рабочих условий в кокпите. Чем
ближе ты к рулю, тем больше сил ты можешь выжать из плеч и рук. Когда монококи стали
становится все уже и уже, в 1989 году я оказался в Ferrari в отвратительном положении.
Не было практически никакой передачи усилий на плечи, все приходилось делать кистями
рук. При этом чрезвычайным нагрузкам подвергаются мускулы между большим и
указательным пальцами. Я интенсивно тренировал их в гимнастическом зале, но все равно
были гонки, когда из-за ужасной боли в руках мне приходилось замедляться. У Найджела
Мэнселла руки более сильные от природы и в этом смысле у него сильное преимущество
надо мной.
Те времена, когда у нас в баках было по 200 кг горючего, тоже сказывались на
управлении, и воспаления соответствующих мускулов были обычным делом. Многие
молодые гонщики не справлялись, так как в Формуле 3 они вообще не встречались с
таким родом усилий на руле. Когда в 1997 году в Benetton я впервые увидел
гидроусилитель руля, я почувствовал себя просто великолепно. Между “иметь” и “не
иметь” огромная разница. Вообще-то это просто нечестно — гоняться с усилителем руля
против кого-то, у кого его нет.
Не верьте, что от сервопривода страдает точность управления. Она вообще не зависит
от усилий при вращении и всю ту чувствительность, которую должен иметь гонщик, он
может вложить в настройки серво.
Мастерство вождения в Формуле 1 логичным образом складывается из многих качеств.
Например: агресивность, рефлексы, глаза, физическая выносливость, дальновидность,
технические знания, опыт, тактические соображения, дисциплина.
Кроме этого, есть еще шестое чувство, чтобы восстановить контроль над уже
«потерянной» машиной. «Владение машиной» -это просто смешной термин для этой
области за границами возможного, но в нашем бизнесе просто договорились употреблять
для этого сухое слово «car control»
Super car control — это дело гениев и совсем не обязательно того гонщика, который
станет чемпионом мира. Этот дополнительный инстинкт нужен только тогда, когда ты
уже зашёл за все границы и вытаскиваешь машину оттуда, куда она вообще не должна
была попасть.
Я потому и считаю Сенну самым большим артистом из всех, что он использовал
практически каждую сотую долю секунды по эту сторону границы, но практически
никогда ее не пересекал. Я думаю, сегодня Шумахер ближе всего к нему в этом
отношении.
Типичными представителями такого гениального избытка car control были для меня
Жиль Вильнев и Кеке Розберг в восьмидесятые годы, и Жан Алези сегодня.
Несмотря на это, по среднему показателю пяти наших совместных сезонов в
квалификацияx я превосходил Алези. Причину этого, вероятно, надо искать в том, что,
веря в свое особенное мастерство, он часто переоценивал себя, то есть был over the limit.
Зато были отдельные гонки, особенно в дождь (сенсационная Сузука 1995), когда о нем
просто можно было забыть, то есть либо он сам себя выбьет из гонки, либо ты все равно
его не догонишь. В любом случае, в такой день даже не стоит пытаться ему подражать.
Журналисты и фанаты больше размышляют над гоночным стилем гонщиков Формулы
1, чем они сами. Что касается меня, то у меня ощущение, что сегодня я езжу как всегда, но
есть достаточно людей, которые утверждают, что из дикого кабана я превратился в
аккуратного, сдержанного гонщика, по настоящему smooth. Это объясняется моей все
нарастающей ленью: я стараюсь проходить повороты с как можно меньшими поправками.
Если считать, что тему «вождения на грани» можно разложить по полочкам, то скорее в
вопросе «избыточной поворачиваемости» (зад выносит наружу) и «недостаточной
поворачиваемости» (нос тянет вперед).
Типичный любитель «избыточной поворачиваемости» это Михаэль Шумахер сo
стилем, созданным под влиянием гонок на картах: там ездят со слабой (легкой) задней
частью машины, на гоночном жаргоне это называется «loose back» или «loose rear».
Хорошие картингисты очень рано давят на газ и при входе в поворот придают карту
движение, вводящее в занос зад машины. Тому, кто привык к такому стилю вождения,
приходится легче. Я вообще считаю, что в наши дни гоночная карьера практически
невозможна без пары лет на картах. Во времена моего детства и юности это еще было не
так актуально, но почти все современные двадцатилетние в Формуле 1 выросли на картах.
Точно так же, как бывают различные типы гонщиков, можно придать машине
различное поведение, то есть тенденцию к слабому задку или же требование езды «на
носу». Эти характеристики либо врожденные с конструкцией машины, либо на них
можено повлиять аэродинамикой или механикой (подвеской).
У машины с недостаточной поворачиваемостью больше сцепление с дорогой на задних
колёсах и в случае чего ее потянет вперёд и на ней легче исправить ошибку (дать газу и
повернуть еще раз) чем на машине с избыточной поворачиваемостью.
Тут воспроизводится психологический подход. Машина с избыточной
поворачиваемостью дает тебе сигнал опасности: «внимание-выносит-разворачиваетназад
». В машине с недостаточной поворачиваемостью при сходе с идеальной линии ты
рискуешь потерей времени, но не контролем над всей ситуацией. Таким образом,
недостаточная поворачиваемость — это более безопасный вариант, с ней чуть легче
справится, особенно на длинных дистанциях.
Я всегда чувствовал себя лучше всего, когда машина вела себя как можно более
нейтрально. Но если бы мне пришлось выбирать, то недостаточная поворачиваемость мне
намного приятней, чем «слабый зад».
Самое большое удовольствие от вождения я испытал не в Формуле 1, а в 1985 году в
BMW 635 Coupe команды Schnitzer. Это была здоровенная штука и, возможно, из-за той
любви, с которой Schitzer и BMW занимались гоночным спортом, они дали мне
ощущение, что машину построили прямо под меня. Я радовался каждый раз, садясь в нее,
и машина сама знала, как я буду рулить. Я так сросся с ней, что на 635-м мне не было
равных. Точно так же, как среди Porsche никто не мог быть быстрее на 956-м, чем Штефан
Беллоф.
Самое дикое приключение на 635-м случилось в Брюне, на старой гоночной трассе,
которая построенна как будто специально для меня. Главный соблазн состоял в том,
чтобы проехать деревню после стартовой прямой на полной скорости, это была «эска», к
которой подьежаешь на 260 км/ч и обычно переключаешь на четвертую. В один
прекрасный момент я проехал по полной, на пятой скорости, всю «эску» -лево-праволево.
Как мало надо для счастья: для меня тогда самым главным было, чтобы старушки,
выглядывающие из деревенских домов, не поворачивали сразу же головы к следующей
машине, а чтобы я видел в зеркале заднего вида, как они смотрят мне вслед. А когда
внезапно головы вообще пропали и появились снова только, когда я посмотрел в зеркала,
тогда я понял: Бергер, теперь ты был быстр.
Годы с Сенной
McLaren 1990, 1991, 1992
С его смертью в Формуле 1 как будто закатилось солнце
Сенне был 21 год, когда он появился в моем поле зрения. Мне было 22.
Это случилось в конце сезона 1981 года, и он победил в гонке Формулы Ford в
Хокенхайме. В следующем году до меня периодически доходили разговоры, что в Англии
есть два выдающихся таланта в моей возрастной группе, одним был Сенна, другим
Мартин Брандл. Мне это не показалось особо важным, так как тогда я был занят
исключительно самим собой и тем, как я завоюю мир или для начала хотя бы немецкую
Формулу 3.
Затем наступил мой первый международный сезон. Тогда я уже иногда встречался с
Сенной, однажды даже наивно спросил о его настройках в Сильверстоуне. Он дал мне
длинный и добродушный ответ, возможно, это был единственный раз в его жизни, когда
он сказал кому-то правду о своих настройках.
Еще годом спустя я приехал в Монте-Карло на гонку Формулы 3, а Сенна в то время
был уже в Формуле 1 в Toleman. Я гулял по трассе и встретил его на велосипеде. Он
остановился, мы поговорили, я спросил его, как ему в Формуле 1, и он мне рассказал чтото
приятное. Мы друг другу понравились.
Еще одним годом позже, в 1985-м, я сам уже был в Формуле 1 у Arrows. Сенна ездил за
Lotus, это была совсем другая категория, и мы почти не пересекались. Я не считал его
чем-то особо выдающимся, но он однозначно был одним из талантливых.
В 1986 году, в Benetton, я уже был настолько быстр, что нам уже неизбежно пришлось
вступить в контакт, так как Сенна главным образом интересовался только теми, кто мог
каким-то образом стоять у него на пути или беспокоить.
В 1987 году я был уже в Ferrari, которая, как правило, превосходила Lotus. Несмотря на
это, он просто не мог согласиться с тем, что из-за своей более слабой машины он должен
быть медленнее других. В его голове такого не существовало, там был только Сенна, а все
остальные обязаны были остаться позади. Однажды в Хересе ему хотя и достался лучший
старт, но далеко не лучшая машина. Образовалась колонна из шести или семи машин, я
среди них, которые хотели его обойти. Держась самой агрессивной боевой линии, иногда
даже зигзагообразной, он удержал всех позади себя. В колонне все больше нарастало
нетерпение, и после одного неудачного маневра я вылетел. Сенна все-таки потом
испытывал угрызения совести и поэтому заговорил со мной об этом. Но говорить было
особо не о чем: он сделал все, что мог в своем положении, мои поздравления! В те
времена он еще не задумывался о тактике. Вся его тактика сводилась к одному: я хочу все
время быть впереди и не дам себя обогнать.
Однажды я хотел обойти его на торможении, мы шли колесо к колесу, и он проиграл,
что для меня не было ничем особенным. Кто-то же должен был проиграть, почему бы и не
он? Только много позже я понял, какой трагедией было для Сенны, если его обгоняли на
трассе. После гонки он тогда подошёл ко мне и сказал: «Ты же знаешь, что если бы я в
последний момент не уступил, то мы бы столкнулись и вылетели оба». И тому подобное.
А я подумал – конечно, мы бы вылетели, так всегда бывает, если другой не уступает, так и
должно быть. Я только посмеялся и сказал «Ну ладно».
Мы все чаще разговаривали, и когда в 1987 году я выиграл последние две гонки,
Сузуку и Аделаиду, мы и в спортивном смысле практически сравнялись.
В 1988 он умчался от меня, ездил за McLaren, в первый раз стал чемпионом мира. Я
занял третье место в чемпионате на Ferrari.
В 1989 в Бразилии мы снова столкнулись, и я вылетел. В общем, это был слабый год
для Ferrari. Так что с моей точки зрения не было причин считать Сенну лучшим
гонщиком, чем я. Поэтому у меня не было никаких сомнений с тем, чтобы в 1990 придти к
нему в McLaren вместо Проста.
Алан Прост и Айртон Сенна ненавидели друг друга до глубины души. Не считая всего
связанного с происхождением, культурой и характером, достаточно было только
абсолютного притязания на звание первого номера в команде, чтобы довести эмоции до
кипения.
Это абсолютное притязание на звание номера один существовало на трех уровнях: в
команде, в Формуле 1 и во всей эпохе. Там столкнулись два гиганта, которые обычно
лучше распределены по эпохам, на которые они наложили свой отпечаток. Была эра
Лауды, была эра Проста, была эра Сенны, но если переход Лауда/Прост был еще болееменее
мягким, то Прост и Сенна столкнулись максимально близко. Прост, двукратный
чемпион мира, считал, что лучшие годы у него еще впереди и отнюдь не был в
ниспадающей фазе, которая бы облегчила переход от одного шефа к другому.
Конечно, был еще и Нельсон Пике, великий чемпион 80-х годов, но все же основная
силовая линия скорее проходила по Лауде-Просту-Сенне.
Прост научился современной, «технической» Формуле 1 от Лауды. Ники понял, что
победить суперталанты типа Ронни Петерсона можно только мозгами. Поэтому он больше
времени посвятил изучению связей между вещами, много думал и размышлял, почему это
так и не иначе, и благодаря этому достиг намного больше. А Прост был первым, кто начал
учиться у Лауды и понял, как все работает.
Сенна, в свою очередь, пришёл в 1988 году к Просту в McLaren и смог присоединиться
к связке Лауда/Прост. Не говоря уже о его суперталанте, он еще и воспользовался самой
важной передачей знаний в Формуле 1.
Командная дуэль Сенна-Прост превратилась в скоростных схватках 1988 года в
психологический террор, продолжавшийся весь сезон 1989 года и, без сомнения, сильно
ухудшивший жизнь обоим, в особенности более старшего Проста. Так что на 1990 год ему
показалось притягательным начать все сначала во второй по скорости команде. Благодаря
своей методической работе он полагал, что сможет вывести безголовую банду Ferrari на
правильный курс. Мне же продолжение в Ferrari мало что дало бы, так как я мог
предложить только свой талант. То есть я мог выиграть только с уходом в лучшую
команду, в McLaren.
Так к сезону 1990 года произошел обмен Прост/Бергер между Ferrari и McLaren-Honda.
Здесь Сенна/Бергер, там Прост/Мэнселл. Догоняющие команды были в первую очередь
Benetton-Ford (Пике/Наннини) и Williams-Renault (Бутсен/Патрезе).
Я был наивен, свободен и весел, когда связался с Сенной. Наша взаимная симпатия еще
облегчила мне задачу. Наши квартиры в Монте-Карло были расположены рядом, я часто
сидел у него на балконе, и мы с удовольствием говорили о деньгах, даже удивительно
откровенно. Я тогда зарабатывал почти так же много, как и он, это успокаивало.
Нашей первой гонкой в одной команде был Феникс. Я сразу же занял поул и
чувствовал себя отлично.
В гонке же все пошло совсем по-другому. Алези впереди, я второй. Сенна сразу позади
меня и это была просто дурацкая ситуация. Я был слишком большим для машины,
неудобно сидел, зато с Сенной у меня на хвосте. Я чувствовал, что должен обязательно
удержать его позади, переоценил свои силы и вылетел в заграждение из покрышек.
Потом, при оценке пройденных кругов, я увидел, что сразу после моего вылета Сенна
стал ехать на полсекунды медленнее и все равно смог обогнать Алези и спокойно
выиграть гонку. Это означало, что в правильный момент он оказал просто убийственное
давление, которого он и сам бы долго не выдержал. Такой хронометраж полностью
соответствовал его грандиозному инстинкту убийцы.
Тогда я воспринял это как тяжелое личное поражение и в первый раз я оценил Сенну
таким образом, как это уже и без того делал весь спортивный мир. В то же время я начал
его уважать, что сделало все для меня намного тяжелее.
Затем последовала его домашняя гонка в Бразилии, которая снова пробудила во мне
надежду. Он хотя и выиграл квалификацию, но в гонке Проста на Ferrari нам обоим было
не догнать. Мое сиденье было мучительным, каждое переключение передач представляло
из себя проблему, но и Сенна неправильно настроил свою машину, и я смог удержать его
на третьем месте.
Затем была дикая схватка за поул-позицию в Имоле. Один показывает время, другой
контратакует, и снова время, и снова контратака. А потом к концу квалификации мы оба
сидим в режиме ожидания, он отстёгивается, вылезает, подходит ко мне, хлопает по плечу
и говорит «это постепенно становится опасным», и мы оба смеёмся. Как бы то ни было, в
Имоле мы тоже стояли оба в первом стартовом ряду, однако он на поуле, потом он сошел
с поломанным колесным диском. Я же не смог предотвратить победу Патрезе и на этом
мое моральное отставание стало, возможно, еще больше.
А теперь Монте-Карло!
Четвёртая гонка, новое поражение.
До поворота «Раскасс» я был по хронометражу быстрее, дурацкая ошибка при
торможении, он впереди, завоевал поул, выиграл гонку. Само по себе это было нормально,
так как в Монте-Карло он был гигант, это было его трасса, но у меня все это привело к
тому, что в голове Сенна безумно вырос, и одно сложилось к другому. Он становился все
сильнее и сильнее, а я все слабее, по крайней мере, в голове.
К половине сезона я окончательно понял, что он меня превосходит. Возможно, из-за
его огромного опыта, который, кроме всего прочего, появился и из прошлых гонок на
картах, как позже у Шумахера. Не важно: он был впереди, и мне нужно было учиться.
Эта учебная фаза возможно и была правильной, но, без сомнения, для прямой дуэли не
особо полезной: нельзя просто так победить своего учителя.
То, чему я мог у него научиться, можно было ясно разделить на три области.
Во-первых: он несравненно больше заботился о технике, он просто намного лучше
знал, что происходит и всегда достигал лучших настроек.
Во-вторых: он был намного сильнее физически, чем я, и если мне удавалось держать
такую же скорость, в конце он был быстрее, просто потому что у него оставалось больше
сил. В автоспорте он достиг совершенно нового уровня физической подготовки. Я знаю,
что трудно объяснить неспециалисту, каким огромным телесным нагрузкам мы
подвергаемся, но это правда: центробежные силы, ускорения, силы на руле и тормозах
экстремальны. И чтобы достичь лучшего, нужно тренироваться так же жестко, как и
профессиональные спортсмены. И Сенна был первым, кто в Бразилии в два часа дня при
40° в тени мог, между прочим, пробежать десять километров и потом еще сто отжиманий,
и это не в тени. А потом он приезжал на Гран-при в Фениксе при 50 градусах и
ухмылялся, зная, что все остальные по сравнению с ним ничего не сделали.
В-третьих, он был сильнее ментально, мог лучше сконцентрироваться и к концу гонки
показать такие времена круга, какие ему хотелось. Как следствие, он был безошибочен, в
то время как я постоянно делал какие-то ошибки. Все другие гонщики, конечно, тоже, в
этом смысле Айртон Сенна был единственным в своем роде.
Многое из этого он получил при рождении. От природы он был ужасно силен
ментально, и годы и десятилетия успеха делали его все сильнее, не важно в карте,
Формуле Ford, Формуле 3 или Формуле 1. Сегодня я могу провести параллель с
Шумахером: эту все более усиливающуюся ментальную силу, которая была изначально.
Насколько далеко заходила его религиозность, я не могу сказать. В любом случае,
Библия всегда была у него под рукой, она лежала в нашем моторхоуме, она лежала на его
тумбочке у кровати и все-таки было похоже, что он черпает из неё свою силу. Короче
говоря: если я достигал наивысшей точки концентрации во время физических тренировок,
когда пахал и потел, то он при чтении Библии. Конечно, если речь шла о том, чтобы за
пять минут до квалификации еще раз заглянуть внутрь себя, его система имела
преимущества.
Некоторые вещи Айртон Сенна совершенно сознательно изображал таким образом,
чтобы они вписывались в желаемый им имидж, например, монашество и жёсткость к
самому себе. Но из религии он никогда не делал шоу, он был действительно верующим,
по крайней мере, как мне кажется. Какую-то роль играл пример его сестры Вивиан, она
привила ему, как само собой разумеющееся, эту религиозность. У моей Анны были
хорошие отношения с Вивиан, из-за общего языка и связей с Бразилией, и когда однажды
та подарила ей Библию, в этом не было никакого желания покрасоваться, красивого жеста
или какого то воспитательного указания. Просто не было ничего удивительного, если
Вивиан дарила кому-то, кого она ценила, Библию и это воспринималось просто как
дружеский знак внимания, не важно, знал ли ты, что с ней делать или нет.
Чего Айртону Сенне тогда явно не хватало, это таланта к дурачеству. В свои неполные
тридцать лет он был уже очень, очень серьёзным человеком, которому тяжело давалось
немного «выпустить пар». Он просто никогда не делал никаких глупостей, полная
противоположность мне. Позже мне удалось его неплохо растопить, но в 1990 году он был
еще немного скован. Складывалось такое впечатление, что он не мог объединить со своим
имиджем бессмысленное веселье с друзьями. Он был слишком зажат в том, как о нем
думал окружающий мир.
К этому нужно добавить, что он обладал абсолютно другим мышлением, чем мы все.
Мне казалось, что причина этого кроется в его стране, в этих огромных просторах
Бразилии.
Если я вырос среди двух гор, где видимость была справа три километра и слева — три
километра, а солнце было видно только в зените, то он видел три тысячи километров
слева и еще три тысячи справа. Соответственно этому он думал и действовал. Если я был
счастлив спонсорскому договору на один миллион и пытался собрать пять таких
договоров, то он заключал один единственный договор и говорил: десять миллионов. Он
не терял время на мелочи. В общем-то, мы делали одно и тоже, но он был совсем другого
калибра, мелочами такого не отвлечёшь.
Как бы то ни было, в середине нашего первого совместного сезона я вынужден был
признать: это идеальный гонщик. И чтобы это пережить, мне тоже поневоле нужно было
стать идеальным. Так я наблюдал за ним, замечал разные вещи и впервые в жизни (за
исключением моего отца) начал действительно уважать какого-то человека. Но поскольку
отсутствие уважения — это важная часть меня, я потерял часть своей личности.
И тут мы подходим к Рону Деннису. Он не любит вспоминать, что начинал учеником
механика у Йохена Риндта (машиной служило сказочное чудовище по имени Cooper-
Maserati). Но как раз в этом источник его силы: он знаком с цирком лучше, чем кто бы то
ни было другой, и с начала 80-х годов он является центральной фигурой Формулы 1,
шефом команды McLaren, обладающим даром предвидения. То, что у него на пути иногда
стоит его собственное эго, это побочный эффект, который несколько уменьшает его
популярность, но его самого никогда не беспокоил.
Я еще раньше был лично знаком с Роном через нашего общего друга, гоночного
директора BMW Дитера Штапперта. На лыжах он впечатляюще, по крайней мере для
англичанина, выдержал все тирольские тесты на прочность.
Упорство Рона в отношении стратегического планирования начало работать шаг за
шагом. Например, то, как он вернул Ники Лауду с пенсии обратно в кокпит, показало, с
каким размахом он может завоёвывать новых партнёров. Так на свет появился проект
TAG-Porsche Мансура Ойe, и McLaren стал трижды чемпионом мира в 1984 (Лауда), 1985
и 1986 годах (Прост).
В последующей эре был только один единственный стоящий партнёр, которого надо
было заполучить: Honda. Рон Деннис отбил японцев от Williams, завоевал Сенну и был
снова впереди всех. Так что, когда я с ним связался, он уже был крупной фигурой, и мне
было любопытно, сумею ли я воспользоваться его опытом.
Однако Деннис привык к гонщикам типа Лауды, Проста и Сенны. Все они были
опытными пилотами и состоявшимися личностями. Ники и Прост знали Рона еще
маленьким механиком и никогда не ползали перед ним на коленях. Мне кажется, он ждал
того момента, когда сможет сам сформировать гонщика и сделать его чемпионом мира, и
я являлся как раз подходящим объектом для его честолюбия.
У меня же до тех пор в моих командах всегда были близкие люди, которые хорошо
умели со мной обращаться. Например, Чарли Ламм и Херберт Шнитцер в кузовных
гонках, Питер Коллинз в Benetton. Они знали, когда меня надо погладить или дать пинка
под зад.
Рон Деннис не искал, конечно, лёгких путей, но, к сожалению, он огранил свой
«природный алмаз» не с той стороны. Он приходил и говорил: «Я наблюдал за тобой, ты
слишком резко наезжаешь на поребрики, тебе нужно ездить чище, дисциплинированней».
Он пытался привить мне именно то, чего во мне просто нет от природы: дисциплину!
Дисциплина, дисциплина! Но я все равно пытался это принять. Я потерял много углов,
стал круглее, но в нашем спорте круглости не нужны — только острые углы. Конечно, я
кое-чему при этом научился, но потерял больше года своей гоночной карьеры.
Позже в Канаде я однажды встретил Майкла Андретти, который рассказал мне
абсолютно тоже самое: в 1993 году Рон Деннис хотел его сформировать, согнуть и
превратить в обтекаемого гонщика McLaren, но молодой Андретти сломался и так и не
нашёл опоры под ногами. В 13 гонках он шесть раз вылетал и разочарованно покинул
команду.
Сенна быстро понял, что для него я идеальный партнёр по команде. Я удивил его
чистой скоростью и подобрался к нему ближе, чем кто-либо другой, даже намного ближе,
чем это удалось Просту. Несмотря на это, настоящей угрозой я не являлся, потому что он
всегда держал меня под контролем благодаря своему совершенству. Поэтому он
становился все свободней и свободней и все больше открывался по отношению ко мне. В
то время ко мне подходило много людей с советами типа: «Ты совершаешь ошибку, ты не
можешь принять его как друга, ты должен сделать из него врага, должен с ним бороться
на всех уровнях», но мне это было поперёк горла, я просто не ног видеть в нем врага, для
этого он слишком сильно мне нравился. Такие вещи необычны для Формулы 1, но так
было.
Конечно же, Айртон Сенна был ужасный эгоист, но в этом нет ничего необычного,
чтобы добраться до Формулы 1, ты должен быть по определению типом,
сконцентрированным только на себе. Возможно, раньше это было по-другому, тогда
талантам удавалось с лёгкостью пробиться наверх, и они могли себе позволить быть
изысканными, рыцарственными. Когда мне кто-то рассказал, что в Ferrari однажды
случилось, что у молодого и старого были одинаковые шансы на чемпионский титул, и
когда в решающей гонке на машине старого возникла поломка, молодой предложил ему
свою, просто из уважения, потому что он еще молод и у него достаточно времени, чтобы
стать чемпионом позже, я спросил: когда это было? В 1956 году, услышал я, тогда мир
был еще, наверное, устроен по другому [В 1956 году за Ferrari ездили Хуан Мануэль
Фанхио, которому было 45 лет, и Питер Коллинз, на 20 лет моложе. В то время еще
разрешалось во время гонки меняться машинами одной марки. В последней гонке, в
Монце, и у Фанхио и у Коллинза были шансы на титул. Фанхио сошел из-за поломки,
Коллинз заехал в боксы для замены шин, увидел Фанхио и добровольно передал ему
машину. Благодаря шести очкам и завоёванному второму месту Фанхио стал чемпионом
мира. Но Коллинзу не удалось воспользоваться своей молодостью, чтобы позже
завоевать титул. Два года спустя он разбился насмерть на Нюрбургринге]. Даже если бы
это разрешалось регламентом, о подобной романтичной рыцарственности сегодня нечего
и думать, на это никто не пойдет.
Сенна всегда и везде требовал себе лучшего, неважно в гонках или в личной жизни, в
важных вещах или в мелочах. Если он звонил мне из Бразилии, то, как правило, было два
часа ночи, а у него как раз вечер. Подумать в такой ситуации о других просто не
приходило ему в голову. Но если об этом знать, то можно было с этим и смириться.
Так как, кроме того, он был очень умен и образован, многие только много позже
понимали, с какой предусмотрительностью он прокладывал свои тактические и
политические связи. В этом ему помогала его волшебство, которое было просто составной
частью его ауры. Этим он мог поразить не только массы, но и больших боссов экономики.
Рон Деннис еще даже не догадывался, что Honda собирается уходить из Формулы 1, он
еще строил с ними большие планы, когда Сенна сказал мне: «Будь осторожен, они
уходят».
На японцев магия Сенны производила особенно сильное впечатление, но когда я
сегодня разговариваю с Патриком Фором, президентом Renault, и речь заходит о Сенне,
он все еще закатывает глаза. Иногда мне казалось, что только одним своим присутствием
Сенна вводил людей в транс, подобно народным героям или демагогическим лидерам. У
Сенны было это излучение и, хотя он и без того был самым сильным, это делало его еще
сильней во всех ресурсах, которые нужны для Формулы 1.
К концу 1990 года мы сблизились еще больше, все чаще встречались. Он приезжал к
нам на корабль -«Марию Роза 27». Мы стояли у Сардинии, веселились и катались до
упаду на водных мотоциклах. Особенно хорошо он находил общий язык с моей Анной,
она ведь выросла в Бразилии. Иногда мне казалось, что он не мог понять, как такой
ветрогон, как я заполучил такую чудесную жену.
В водных мотоциклах мы действительно доходили до предела (Сенна каждый раз
настраивал карбюратор) и иногда нам приходилось вылавливать друг друга из воды,
потому что эти штуки просто разваливались на части.
Потом он пригласил меня в Бразилию, в свой фантастически расположенный дом в
Ангре, прямо на песчаном пляже. В море вел бетонный причал, и если волнение не было
особо сильным то, пригнув голову, под ним можно было проехать на водном мотоцикле.
Сенна хорошо это умел, хотя бы из-за постоянных тренировок. А вот для гостя это
выглядело довольно рискованно. Мне уже от одного наблюдения становилось не по себе,
но вероятно так оно и было задумано.
Дом Сенны у моря был прекрасен, но он не имел таких мистических размеров, как
можно было прочесть или услышать. Из-за того, что он капитально отгородил свои
владения и никого не подпускал близко, легенды ширились без особых стараний со
стороны самого Сенны. Все умножалось на фактор Сенны и, если он пробегал 15 км, на
следующий день в газете стояло: Сенна при палящей жаре пробежал по песку 35 км.
Но правда впечатляла и без того. Я познакомился и со знакомыми Сенны, в том числе с
его названным дядей Брагой, которого можно назвать настоящим богачом бразильских
масштабов. В то время начались особые отношения между Сенной и Йозефом Леберером,
которые продолжались до самой его смерти. Йо был одним из тех массажистов и
специалистов по фитнессу, которые пришли в Формулу 1 в кильватере знаменитого Вилли
Дунгла и вскоре без них уже нельзя было обойтись. Сначала Йо отвечал в McLaren за
обоих гонщиков, позже в Williams только за Сенну. Его талант клоуна был приятным
дополнением к массажу и медицине, а у Сенны все-таки имелась некоторая
необходимость наверстать упущенное в смысле делания глупостей без особого смысла и
забот об имидже.
Когда я вернулся в Европу, мы перезванивались каждые пару дней, и он много
рассказывал о своей личной жизни. В то время он был сильно влюблен в Шушу, так
сказать, няню бразильского телевидения, чрезвычайно популярную по всей стране. Она
была первоклассной в любом отношении и, вероятно, одним из немногих людей, равных
Айртону Сенне. Она была его мечтой, но кажется, не подстраивалась под него, как ему
хотелось и, во всяком случае, в его внутреннем мире было больше кризисов, чем можно
было бы подумать.
Потом появилась Кристина, тоже бразилианка, весёлая и болтливая, и с ней Сенна
снова бывал на моем, между делом, новом корабле. Мы стояли у Ибицы и много плавали
по окрестностям. Это, наверное, звучит, как каникулы миллионеров, но на самом деле это
были бесконечно драгоценные дни, потому что в них мы сбрасывали стресс гоночного
календаря. Если у нас случались три или четыре спокойных дня, они давали столько
отдыха, как другим три недели.
Для Формулы 1 это были довольно примечательные отношения. Но это не значит, что
мы слепо друг другу доверяли. Время от времени случались странные вещи во время тех
или иных переговоров. Но все-таки Сенна предупредил меня очень рано, уже зимой
1991/92, что на 1993 год McLaren не получит договор с Honda.
При всем прагматизме японского бизнеса многие важные решения принимаются на
эмоциональном уровне, и Рон Деннис совершил несколько ошибок по отношению к
боссам Honda. Кажется, ближе к концу у Кавамото возникли настоящие проблемы с
Деннисом.
Тем теснее становились эмоциональные связи между Сенной и японцами. Надо сказать,
что Сенна грандиозно владел этим искусством. Была одна ситуация, когда я бы с
огромным удовольствием дал ему под зад. Мы давали автографы в Токио и рядом друг с
другом подписывали открытки, тут вошла госпожа Хонда. Ее муж, все затеняющий
Соширо Хонда, умер незадолго до того. Сенна подписал для госпожи Хонды специальную
открытку: To my mother in Japan, big love и так далее. Я глазам своим не поверил: TO MY
MOTHER IN JAPAN, что за чепуха! Мне бы в голову не пришло сказать или написать
такое, для него же совсем легко. Подобным вещам он тоже обязан частью своего успеха.
Мне на своей стороне фронта тоже удалось добиться кое-каких успехов. Я научил
Айртона Сенно своему хулиганству, научил его жить так легко, как привык сам.
Дело доходило, начиная с шуток в разговорах, до настоящих шедевров взаимных
розыгрышей, но, с другой стороны, и до диких погонь в аэродинамической тени друг
друга на тренировках. Он легко давал втянуть себя в такие вещи, но я по-прежнему всегда
оставался немного более сумасшедшим, хотя как мне кажется, после моей аварии в Имоле
я потерял полную, стопроцентную непосредственность. А тут еще и постоянное
дисциплинирование со стороны Рона Денниса! И все равно: я был более сумасшедшим, он
был более совершенен, и такое распределение ролей не давало нам соскучиться в те дни.
Для меня к тому времени вся прошедшая жизнь состояла, за несколькими
исключениями, из бесконечной череды розыгрышей, еще и усиленных тирольским
влиянием. В шутках тирольцев есть нечто прямое и непривыкшему человеку иногда
трудно различать, где кончается шутка и начинается правда. То, над чем смеются у нас, в
доброй половине стран мира покажется оскорблением.
Австралия, 1990 г., за несколько дней до гонки. После ужина мы начали прямо в
одежде швырять людей в бассейн, я удачно упирался и не упал туда, но зато упали многие
другие. Сенна сбежал, чтобы мы его не поймали. Когда я позже заглянул к нему в
комнату, он меня подкараулил и задорно облил стаканом воды. Тирольца так не
намочишь, но это был знак, что он хотел участвовать в игре. Вот тут то мы за него и
принялись.
Из шланга мы соорудили удлинитель для огнетушителя и просунули его в три часа
ночи Сенне под дверь. Пригласив пару зрителей, мы нажали на спуск. Сенна вылетел из
окна как ракета, а комната выглядела так, как будто в ней взорвалась бомба. Разразился
дикий скандал, люди проснулись и наехали на Сенну за то, что он так шумит. Ему было
очень стыдно.
На следующий день он прочел мне лекцию о том, что там химикалии, и он мог бы
умереть. Но все же он посчитал себя обязанным взять реванш и даже иногда пробовал
как-нибудь безобидно подшутить, что, конечно же, затем ударяло по нему самому в сто
раз сильнее.
Очень мила история с сыром в Мексике. Чтобы привыкнуть к высокогорью, мы
прибыли туда за целую неделю до гонки, а это значит, что можно было все тщательно и с
любовью подготовить. Карлхайнц Циммерманн раздобыл подходящую рыбу и особо
вонючий сыр, всему этому я достаточно долгое время дал полежать на солнце. Вы не
можете себе представить какая это была вонь! Все это мы засунули затем Сенне под
кровать, и еще пару кусочков распределили по вентиляционной шахте. Конечно же, сыр
под кроватью он быстро нашел и выкинул, а оставшийся запах он посчитал остаточным
явлением, который быстро выветрится. Но само собой вонять продолжало так же, как и
раньше. Люди бледнели даже снаружи, в коридоре. Отель был забит под завязку и Сенна
даже не мог выехать. Кроме того, кто-то ему сказал, что Мексика — это страна чёрной
магии и, будучи бразильцем, он на всякий случай решил не открывать ночью окно.
Некоторое время он обижался, но в целом и в общем привык к такому разнообразному
роду общения.
Например, когда обнаружил свою комнату в австралийском Порт Дугласе, полную
лягушек. Лягушки в кровати, в каждом ящике, в каждом кармане. «Ты настоящий
придурок», сказал он мне утром, «я полночи провел, вынося жаб наружу»
«А куда делась змея?»
И он еще две ночи не спал.
Но больше всего Сенну поразил номер с чемоданчиком и вертолётом, он себе такого
даже не мог представить.
Мы как обычно жили на вилле д“Эсте у озера Комa и летали в Монцу на вертолёте. Рон
Деннис и Сенна несколько часов просидели рядышком, с большим трудом состряпали
новый договор и подписали его. Сенна сложил эти бумаги в свой кейс за 8000 долларов.
Он был очень горд этим кейсом, и мы все знали, что он стоил 8000 долларов и что в
американской рекламе на него становился слон.
Сенна сам управлял вертолётом, кроме него, на борту были еще Рон Деннис, его жена
Лиза и я. Когда мы начали заход на посадку в Монце, я открыл дверь и выкинул кейс
наружу. Сенна этого не заметил, а остальные впали в полный ступор и лишились дара
речи. Я снова закрыл дверь и посмотрел вслед чемоданчику, как он ударился о землю в
150 метрах под нами и поднял небольшое облачко пыли.
Указатель с посадочной площадки в оранжевом комбинезоне, вероятно решил, что от
вертолета что-то отвалилось и помчался к месту падения. Мы же между тем
приземлились, Сенна принялся искать свой кейс и смеялся, ну знаете, как смеются люди,
у которых кто-то спрятал чемоданчик. Остальные двое притворились мертвыми, Сенна
ходил вокруг вертолета и искал кейс. Тут он издалека услышал вопли человека в
оранжевом, тот со всех ног бежал к нам с кейсом в руках. Внезапно до Сенны дошло, что
это был его кейс, он смотрел то на чемоданчик, то в воздух, то на меня и просто не мог
сообразить.
Однако, когда выяснилось что эта штука действительно не сломалась, тут настала
очередь смущаться мне, получилось, что я проиграл. Но когда кейс открыли,
обнаружилось, что все авторучки взорвались и развели дикую грязь, так что в этом
смысле шутка не была полным провалом.
Сенна хотя и оплакивал свои 8000 долларов (так как кейс все-таки нельзя было больше
использовать), но он не по-настоящему обозлился. Ему даже каким-то образом
понравилось, что кто-то может бытъ настолько сумасшедшим, что бы выкинуть из
вертолёта кейс Айртона Сенны.
Мне только осталось добавить, что сегодня я бы не стал выкидывать чемоданчики с
вертолетов, но это было типично для того времени, когда мы пытались превзойти друг
друга в дурачествах.
В конце 1990 года случилась большая драка между Сенной и Простом, и это уже была
вторая большая драка между ними.
То, что такой человек, как Сенна, создавал себе врагов, исходило из самой его личности
мировой звезды, склонной поляризировать людей. Это была не просто временная
антипатия, а нечто глубокое и пассивное. У Сенны было три такие антисвязи: Пике,
Прост, Стюарт.
Наиболее непримиримо относились друг к другу два бразильских суперчемпиона, Пике
и Сенна. Возможно, это было нормальным следствием возникшего положения: Пике на
восемь лет старше, оба были бразильскими суперзвездами и в конце восьмидесятых один
катился вниз, другой был на подъеме. В такой ситуации многого не надо, чтобы возник
мега-вихрь.
В любом случае Сенна считал, что Пике плохо о нем отзывался, называл его
гомосексуалистом и разводил слухи о связи с одним из механиков Lotus. Поскольку эту
историю подхватила бразильская пресса, она получила соответствующий резонанс. Я про
это могу сказать только то, что не знаю, распространял ли Пике действительно такие
слухи. Как бы то ни было, лично я никогда не замечал, чтобы Сенна испытывал к
мужчинам нечто большее, чем просто дружеские чувства. В общем: Пика и Сенна были
серьезно на ножах.
По сравнению с этим история со Стюартом казалась просто детской шалостью. Джеки
Стюарт, как телекомментатор, пару раз критиковал Сенну и сказал, что тот слишком часто
попадает в аварии. У Сенны был пунктик в этом отношении и поэтому он сильно
обозлился на Стюарта, я думаю, что и как личности они друг другу совсем не подходили.
Так что не было ничего удивительного в том, что Сенна Стюарта невзлюбил.
Что касается Алана Проста: у Сенны было что-то против него чисто по-человечески, он
не выносил какую-то черту его характера. Как гонщика он его уважал — за умение
настраивать машину и стратегию. Сильно быстрым он Проста не считал, но возможно, это
уже было частью взаимных оскорблений, так как медленным француза уж точно не
назовёшь.
Итак, дело было в октябре 1990 года и, как и в прошлом году, положение в чемпионате
было таково, что столкновение в предпоследней гонке сезона, то есть в Сузуке, могло
принести преждевременную развязку. Можно сказать, что у лидера по очкам (в 1989 г.
Прост, в 1990 г. Сенна) был мотив для совместной аварии.
Об обоих событиях в своё время было написано бесконечно много, с моей точки зрения
все выглядело так:
Прост и Сенна ненавидели друг друга слишком сильно, чтобы их можно было
остановить какими-то нежностями. В 1989 году они еще были в одной команде (McLaren),
Прост спровоцировал аварию, потому что цель оправдывала средства, а ему очень, очень
хотелось стать чемпионом мира.
В 1990 Прост уже сидел в Ferrari. Сенна подготовил реванш хладнокровно, мастерски
и, без сомнения, с чистой совестью, потому что он думал о прошлом годе. Операция была
достаточно элегантна, чтобы невозможно было доказать злой умысел, и я тогда очень
удивился, что Прост вообще допустил ситуацию, когда это смогло произойти.
У Сенны был поул, Прост был вторым, но преимущество поула было более чем
сомнительным, так как он находился на внутренней стороне трассы. Предложение Сенны
дать держателю поул-позиции то место, которое он сам считает лучшим, было отвергнуто
ФИА. Итак, первый ряд: внутри Сенна (McLaren), снаружи Прост (Ferrari), за ними
Мэнселл (Ferrari), Бергер (McLaren). Из этого становится ясно, что коллеги по команде
вполне могли поучаствовать в игре.
Перед стартом я договорился с Сенной, что я немедленно протиснусь мимо Проста («он
наверняка тебя пропустит, потому что не пойдет в этой гонке на риск») и подумал, что с
ним я могу рискнуть, он будет держаться подальше от любого противника. А потом, на
старте, я глазам своим не поверил, Прост передвинулся внутрь — не может быть, чтобы
он пошел напролом. Только благодаря этому у Сенны вообще появился шанс столкнуться.
А если уже столкновение неизбежно, то, конечно, в том месте, где наименьшая опасность,
лучше всего сразу после старта, потому что там обычно скорости не так высоки. Однако в
Сузуке до первого поворота почти 500 метров, там мы давно уже на пятой скорости.
И все же это был просчитанный риск: Прост был впереди и все больше смещался
вовнутрь, Сенне только и оставалось, что держать свою линию и не отпускать газ, оба
вылетели в песок и самой большой неприятностью стало то, что Прост больше не мог
стать чемпионом мира. Сенна мог сказать: Прост хотел проехать в дыру, которой не было
и никто не мог доказать Айртону Сенне обратного. Сенна стал во второй раз чемпионом и
находил это справедливым.
Столкновения, которых можно было избежать, но не избежали: они были всегда и
всегда будут и не нужно так сильно возмущаться. Конечно же, спорт должен быть
чистым, возможно даже формирующим характер, но в профессиональном спорте нужен
инстинкт убийцы и если где-то в пограничной зоне происходит столкновение, из-за этого
еще не ставится под вопрос мораль всего спорта. И если на такие радикальные решения
решаются настоящие профессионалы, как Прост и Сенна или позже Демон Хилл и
Шумахер, то можно исходить из того, что никто не пострадает, для этого все участники
слишком умны, умелы и, в конечном счёте, здравомыслящие. Я думаю, что после
столкновения Шумахера с Вильневым в Хересе в 1997 г. эта тема на некоторое время
закрыта: с точки зрения мирового телевидения все происшествие появилось в таком
невыгодном свете, что ФИА разразилась дикими угрозами. И если Шумахер отделался
сравнительно дешево, то следующий рискует серьёзными последствиями.
Я сам никогда не попадал в Формуле 1 в ситуацию, когда должен был убрать кого-то с
дороги (кроме двух происшествий с Эдди Ирвайном), я могу вспомнить только один
случай из времен кузовных гонок. Не то, чтобы я был этим горд, но для полноты картины:
Дело было в 1985 году, я ездил на BMW 635 Csi за команду Schnitzer. Команда
Walkinshaw тогда использовала Rover, которые были, как правило, немного быстрее нас,
но на самой быстрой BMW мне обычно удавалось попасть в первый или второй стартовый
ряд. Пару раз я замечал, что один из Rover путался под ногами, именно когда я был в
самой важной фазе квалификации. В Брюне снова так получилось, и я делал все
возможное, чтобы разойтись как можно дальше, но парень по настоящему меня поджидал,
снова плелся как черепаха и снова блокировал меня в повороте. И когда во время более
поздней попытки он снова возник передо мной, и снова на скорости торможения, я убрал
руки с руля, чтобы не получить ушибов и на полном газу вмазался в него. Некоторым
людям просто иначе не объяснишь, что, в крайнем случае, ты готов проехать сквозь их
машину, по-другому они не понимают. Конечно же, такие типы не доходят до Формулы 1,
поэтому там и не нужны такие силовые акции, которые бы никто и не потерпел.
Если в 1990 году Сенна держал меня под контролем, то в 1991 было еще хуже. Мне
хотя и удалось шесть раз взойти на подиум, завоевать парочку поулов и быстрых кругов,
но отставание от нового чемпиона Сенны было деморализующим. Тем легче удавалось
чемпиону использовать весь свой шарм и харизму в личном общении. У меня просто не
было шансов для появления какой-то ненависти, хотя для достижения спортивных целей
это, возможно, было бы желательно.
В его поведении в том сезоне было только одна неприятность, то, что он мне подарил
победу в Японии. Это был ненужный жест.
Мы с самого начала контролировали гонку, я с поула, он потом лидируя, а я при этом в
основном видел у него на хвосте, но не получил не одного стоящего шанса на обгон. Это
была чудесная, жесткая схватка между двумя равноценными соперниками. К половине
гонки у меня сломалась выхлопная труба, я потерял мощность, отстал и был готов
удовлетвориться вторым местом. Все было бы в порядке, если бы мы пересекли
финишную черту первым и вторым, один победитель, другой очень достойный второй.
Вместо этого он затормозил непосредственно перед финишем, у меня не было времени на
размышления, я просто вынужден был обогнать, ведь у него мог и кончиться бензин.
Этот «широкий жест» наводил тоску, так как если бы он действительно хотел от
чистого сердца сделать мне что-то хорошее в качестве утешения за проваленный сезон, он
мог бы пропустить меня за десять кругов до конца, мы бы устроили хорошее шоу, и в
конце я бы выиграл. А так он показал всему миру, кто хозяин в доме, и что при его
положении в чемпионате он может себе позволить кинуть пару крох маленькому Бергеру.
То обстоятельство, что из-за моего сломанного выхлопа я действительно находился в
невыгодном положении, совершенно забылось, а осталась только великолепная
демонстрация силы и великодушия Сенны.
Официально мне, конечно, пришлось сделать хорошую мину при плохой игре, но
внутри я был подорван. Как бы то ни было, потом мы не обменялись ни одним словом по
этому поводу, то есть я не поблагодарил, а он так и не удосужился объяснить, чего он
хотел добиться этой акцией
Наша дружба от этого не пострадала, но усилилась та пригоршня недоверия, которую я
сохранил по отношению к Сенне до тех пор, пока мы ездили в одной команде.
Годы с Сенной были концом беззаботности, но они очень много дали мне как гонщику,
даже если я не могу это стопроцентно доказать результатами.
Я начал серьезно работать, чтобы охватить весь гоночный спорт в комплексе, каким он
сегодня и является. Сенна и Прост были намного впереди меня по прилежанию, но и я
теперь полностью выкладывался. Мне казалось, будто я из сказочной страны попал сразу
на рудники, столь драматичной была смена условий труда. По чистой скорости, основе
экстремального гоночного вождения, Сенна меня не опережал, это каждый раз можно
было считать с компьютерных распечаток. В самых скверных местах, в пассажах,
проходимых на 250 км/ч, у меня еще чаще, чем у него, можно было видеть ровную линию
полностью нажатой педали, даже на кругах, где лучшее время показывал, в конце концов,
он. Он выигрывал время, потому что был более завершенным и совершенным человеком,
а не более быстрым.
В Ferrari после тренировки для меня было привычно сказать своему инженеру: так, у
моей машины вот здесь избыточная поворачиваемость, а вот там – недостаточная, и еще
она чуть-чуть жестковата. Потом я хлопал его по плечу и говорил, теперь твоя работа,
завтра утром не должно быть никакой избыточной и недостаточной поворачиваемости,
после чего я, отпуская шутки, уходил.
Вдруг эти дни на гоночной трассе стали означать плотную работу с самого утра до
семи вечера, бесконечные анализы компьютерных данных, бесконечные дискуссии с
инженерами. Сенна знал момент затяжки каждого болта, он хотел знать вообще все и
везде участвовать в принятии решений. Прежде чем дать поставить стабилизатор, он
десять раз крутил его туда и сюда.
Как только я привык к такой интенсивной работе, я стал, собственно, радоваться этому,
я этим интересовался, я хотел быть в самой середине. Вдруг я почувствовал себя
взрослым, по крайней мере, в своей приобретенной профессии гонщика.
Физически я, конечно, тоже прибавил. Хотя и никогда не пытался преодолеть Сенну в
его забегах по жаре, но я истязал себя неизмеримо больше, чем раньше.
На третий наш совместный год в McLaren даже способности Сенны достигли границы.
1992 был годом Williams-Renault и в особенности годом Найджела Мэнселла, который
сразу выиграл первые пять гонок подряд [в книге рекордов Мэнселл стоит, таким
образом, наравне с Джеком Брэбэмом (1960) и Джимом Кларком (1965), на втором
месте после Альберто Аскари, который на Ferrari победил в девяти гонках Гран-при
подряд в 1952/53 гг.]. Причиной этого потрясающего превосходства была отличная
согласованность трех факторов и их безошибочное воплощение командой и гонщиком.
Williams имел лучший доступ к таинствам активной подвески, Renault построил
супермотор, а Elf нашел чрезвычайно эффективную формулу топлива — тогда же царила
значительная свобода в области бензиновых смесей.
Примерно oценив тенденции в McLaren Сенна еще весной мне сказал:
“Будь внимателен, Рон хочет урезать твою зарплату”.
Я уже упоминал, что мы особенно хорошо гармонировали в денежных делах, я
поражался беспощадности его требований, а также его прозорливости в воплощении
заявлений, казавшихся поначалу утопическими. Аукционная торговля Сенны была
искусством, выходившим за чисто денежные рамки.
Даже если мы часами болтали, тема была обычно узкой, поскольку все мысли
крутились только вокруг достижения успеха. Собственно, тема была одна: как можно
достичь еще большего успеха и осваивать одну вещь за другой? Мы могли часами
слушать друг друга, если один из нас рассказывал о своем способе переговоров и
заключения контракта. Наши позиции были, конечно, несравнимы, он мог предъявить в
пять раз больше успехов и имел огромный бразильский рынок за спиной, но ему
нравилось, как я боролся и использовал все возможности. А что касалось него, то
вызванное им взрывное повышение зарплат в Формуле 1 было настоящим безумием. Это
были скачки того размера, каких до него достигал только Ники Лауда, а после него –
Михаэль Шумахер.
Или вот история о том, как он на протяжении многих лет сталкивал лбами Рона
Денниса и Фрэнка Уильямса. Williams был на пути к вершине, с правильным мотором
(Renault, прежде всего ввиду возможного ухода Honda), с правильными инженерами и
вообще с правильной хваткой. Чего не хватало, так это совершенного гонщика уровня
Проста или Сенны. Прост более или менее был связан с Ferrari. Сенна, собственно, пока
хотел остаться в McLaren, так что использовал против Рона Денниса жадность Фрэнка
Уильямса.
Он сказал мне:
“Я буду требовать столько-то”, это было на 40% выше потолка заработков Формулы 1,
которого достиг Ален Прост.
Я был восхищен и поздравил его хотя бы с намерением произнести такие суммы вслух.
На следующее утро, на завтраке, он сказал:
“Я тут поразмыслил, я потребую столько-то”. Это было выше еще на 20%.
“Ты спятил. Невозможно”.
“Увидишь”.
Переговоры растянулись бесконечно, они, должно быть, стали невыразимым мучением
для Рона Денниса. Но Сенна получил свою сказочную сумму, причем его интересовали не
столько деньги, сколько факт достижения двойного заработка по сравнению с Аленом
Простом. В два раза больше Проста, да еще из кошелька Рона Денниса, можете себе
представить!
Из-за этого Деннис был несколько недель в жалком состоянии, поскольку не знал, где
ему взять столько денег. Сенне было, конечно, все равно.
Так что, если Сенна говорил теперь, что продление моего договора с McLaren катится
по наклонной плоскости, он наверняка знал, о чем говорил. Еще важнее то, что Сенна
благодаря своей интимной близости к Японии знал, что Honda не будет больше
участвовать в гонках с 1993 года.
Без моторов Honda положение McLaren по отношению к Williams-Renault ухудшилось
бы еще драматичнее.
Сенна сразу подтвердил мою первую инстинктивную мысль – перейти в Ferrari. Я был
не совсем уверен, не хотел ли он использовать меня этаким разведчиком, чтобы сначала
дать возможность все как следует выбраковать, а через один или два года самому перейти
вслед за мной. Поскольку, в сущности, то, что он представлял ультимативной высшей
точкой своей карьеры гонщика, было соединением магии Ferrari и магии Айртона Сенны и
синтезирование, таким образом, сенсационного произведения искусства. Но для этого ему
была нужна топ-команда Ferrari, а не команда в том неупорядоченном состоянии, в
котором она тогда находилась, несмотря на Проста.
Как бы то ни было: я склонялся к Ferrari. Тогда я не хотел сознаваться, но время лечит
раны. По правде говоря, у меня было чувство, что я не смогу дольше переносить Сенну.
Его знания, его репутацию, его личность, все это я мог до тех пор неплохо выносить, но
мысль о еще одном годе в одной команде делала меня больным. Я тосковал по тому, как
снова выйду из его тени, стану личностью и буду играть главную роль в команде.
Ferrari облегчила мне все это. Они хотели заполучить меня сильно и на самом деле.Я
получил отличное предложение и подписал контракт еще в мае. На Гран-при Канады я
сказал Рону Денису, что собираюсь уходить от него. Рон был совершенно не подготовлен
к этому, он был уверен во мне.
Случайно Канада стала бурной гонкой, которая прервала скучное однообразие
процессий Williams в этом году. Сенна заманил Мэнселла в обгонный маневр, который ни
при каких обстоятельствах не получился бы. Я победил в поединке Патрезе, стал угрожать
Сенне, пока у него не появились проблемы, потом защитил свою лидирующую позицию
от атак Шумахера и выиграл мою первую гонку за McLaren со времени любезности Сенны
в Сузуке. Я хорошо помню эти выходные еще и потому, что путешествие в Канаду я
совершил как свою расширенную летную практику и на небольшом самолете Citation I
пролетел над Гренландией. Обратное путешествие я не забуду никогда.
Идея о том, чтобы сразу в Монреале завалиться спать, лишь едва промелькнула. Нет,
мы предпочли немедленно пролететь первый этап до Гуз-Бэй. От усталости не осталось и
следа, кроме того, я был лишь вторым пилотом, а капитаном был Зиги Ангерер. Так что
мы устремились в направлении Лабрадора.
Гуз-Бэй, вероятно, существенный опорный пункт для контроля над воздушным
пространством Лабрадора и Северных территорий [Канады], во всяком случае, там
располагалось больше истребителей-бомбардировщиков, чем хотелось бы видеть, но в
остальном мне вспоминается немного. Даже в июне встречались белые медведи, а зиму
описать не удастся никому. Пока самолет обслуживали, почти наступила полночь, и
такси, отлично подходившее ко всей ситуации, которая могла бы разыгрываться и в
Сибири, доставило нас в отель под следующим названием:
“Отель Лабрадор”.
Поесть в отеле было уже нечего, но если поспешить, мы успевали в ресторан, конечно,
пешком, поскольку такси уже уехало.
Мы прошли пару бараков, пока освещение не указало нам путь направо. Ресторан
назывался “Гонконг”.
Я хотел для достойного окончания дня заказать шницель по-венски с кетчупом и
картошкой фри, но вынужден был изменить заказ на строганую говядину, тем не менее, с
кетчупом и картошкой фри. К сему мы употребили любимое пиво сорта “Labatt’s Blue”.
У меня было совершенно ясное представление, чего бы я пожелал себе в вечер такой
победы: ленту транспортера, которая перенесла бы меня непосредственно от стола в
постель, по пути должна быть встроена моечная установка, как для автомобилей, со
щетками и шампунем, и я бы появился с другой ее стороны, вымытый и высушенный.
Ранним утром мы услышали ужасный прогноз погоды, которые еще ухудшался:
видимость в гренландском городе Нарсарсуак быстро ухудшалась и была на нуле, когда
мы были в той местности. Было только два шанса обойти непогоду, и капитан Ангерер
решился уйти на севернее расположенный Готхаб.
Это было невероятно.
Когда мы прорывались через облака, нас настигла снежная буря, и большую часть
времени вообще ничего не было видно, а когда кое-какая видимость появилась, это были
свинцово-серые контуры замерзшей чужой планеты. Когда Зиги в очередной раз
энергично направил нос самолета вниз, он мог бы с той же вероятностью сбросить
машину в море, но вдруг появились посадочный крест и полоса, хотя и ужасно короткая.
Капитан с грандиозной решительностью направил самолет через все шквалы точно в
начало этой полосы. Грохот был немного больше обычного, но на этом все и закончилось.
С безумными чувствами, но зато триумфально, мы достигли Готхаба. На виде с земли
все это тоже выглядело давно замерзшей унылой планетой.
Поскольку мне было очень жаль юношу, заправлявшего самолет, то захотелось сказать
что-нибудь приятное, и мне пришло в голову:
“Nice place here”. [Здесь приятное место]
В ответ на это молодой человек просиял среди снежной бури и ответил с
поразительной убежденностью:
“Yes. Only the weather is bad”. [Да. Только погода плохая]
Эта относительность понятия “приятное место” дала мне большое поле для
размышлений. Происходит ли с другими так же? Например, Тироль мне кажется
замечательным, а Сенна, который родом из Рио, думает: “Вот бедняга”.
Мы покинули Готхаб курсом на Исландию, которая показалась нам тропическим
островом. Из Кефлавика мы полетели в Лутон, наиболее оптимальный для Сильверстоуна
аэропорт, предназначенный для реактивных самолетов. Была точно полночь.
Следующие два дня я тестировал активную подвеску McLaren и несколько
аэродинамических нюансов. Я надеялся еще на секунду приблизиться к Williams, но это
было иллюзией.
С официально объявленным теперь уходом Honda команда McLaren оказалась перед
очередным препятствием, да еще Сенна сказал Рону Деннису, что он покидает его и
уходит в Williams. Правда, эти разговоры пока оставались секретом, прежде всего
благодаря политической власти Алена Проста, который без помех хотел получить свой
четвертый чемпионский титул. В 1993 году Сенна должен был остаться в McLaren, как
выяснилось, с моторами Ford, а также со странным контрактом, который действовал
только от гонки до гонки.
Так мы выступали в 1993 году в разных командах, Сенна в McLaren c не очень
хорошим двигателем Ford (и, в конечном счете, не имея шансов против Проста в Williams-
Renault), а я в Ferrari.
Тем самым отпала последняя крупица холода в отношениях, который почти неизбежен
внутри командной “упряжки” в Формуле 1, и осталась только ничем не отягощенная
дружба. Благодаря нашему общему другу по фитнесу Йозефу Лебереру уже давно
образовался треугольник, в котором развилась “шутливость”, какой Сенна просто не знал.
Под словом “ шутливость” я имею в виду легкость тонов общения, смех над всеми теми
ситуациями, которые не касались на полном серьезе нашей работы. Это такой вид
повседневного пройдошества, из которого развивается небольшая художественная форма,
которая в конечном счете становится для посвященного обычным состоянием. Для меня
это состояние было нормальным, поскольку я всю жизнь ни к чему другому и не
привыкал, но для Сенны это было новое качество жизни, раз оно освободило его от
постоянной необходимости быть очень серьезным, характерным и политически
корректным, как положено мировой звезде.
В любом случае, он просто тащился от всего этого веселья, даже если на это оставалось
только пару минут времени. Йозеф стал важным человеком в жизни Сенны, гораздо
большим, чем просто массажист или руководитель по фитнесу, а настоящим доверенным
лицом, и наш “треугольник” выдержал и тогда, когда мы очутились в разных командах.
Разве что, когда я ушел в Ferrari, было ясно, что Джо останется с Сенной, и я пригласил
назад Хайнца Лехнера, который занимался мной еще во время первого периода в Ferrari.
Хайнц – отличный физиотерапевт, тоже из группы ребят Дунгля.
Тем временем мое представление о Сенне приобрело завершенность. Я воображал, что
нахожусь как бы автоматически на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире гонщиком, и
все это логично произойдет из моего таланта. До тех пор, пока не понял однажды, что на
этом пути нельзя миновать Сенну.
Это действительно можно понять лишь тогда, когда знал его очень хорошо и работал с
ним вместе. Например, Жан Алези часто фантазировал, что считает себя способным
“согнуть” Сенну, а я говорил ему, ты заблуждаешься, ты даже не приблизишься к этому. В
некоторые моменты, в определенных поворотах, да, разумеется, его можно было
превзойти, но в общем – нечего было и думать.
Об этой совокупности и идет речь. Времена, когда гонщика оценивали только по его
скорости и рефлексам, прошли. У Айртона Сенны это было согласованность разума,
концентрации и силы. Его способность концентрироваться на гоночном вождении была
выше, чем у всех нас, на две или три ступени, это было сенсационно.
Конечно, я подсматривал за ним, и всегда раздумывал над тем, в чем заключается его
тайна, и как ловкий тирольский парень смог бы это воспроизвести. Самое большее, что я
понимал, была его религиозность, но этот путь никуда меня не привел. Он все-таки
выталкивал людей с трассы и на скорости 200 км/ч, что не было так уж религиозно,
поэтому тут мне до конца не все понятно. Религия и бытие бойцом, это как-то
противоречит друг другу, но, конечно, религиозные люди тоже шли на войну и убивали, и
говорили, что это их долг. Я слишком мало понимаю в этом, я лишь уважал все, что было
связано с его религиозностью. Но это было не то, за что я сам мог бы ухватиться.
Через год после меня Сенна покинул McLaren и перешел в Williams. Это была ломовая
акция, соответствовавшая характеру Сенны: Williams на 1994 год уже имел действующий
контракт с Простом, но Сенне на это было наплевать. Он вообразил себе, что должен
ездить обязательно за команду Williams, потому что только этот и никакой другой
автомобиль он считал чемпионским. Если его инстинкт убийцы так серьезно проявлялся,
то даже самая экстремальная акция не была для него невыполнимой.
Так возникла эта извращенная сделка, когда Сенна выкупил Проста, или, говоря
другими словами, заключил годовой контракт по нулевому тарифу, а может быть, еще и
доплатил собственных денег, чтобы Williams мог платить Просту полную договорную
сумму за то, чтобы он не выступал. Контракт Сенны был более долгосрочный, так что в
1995 году там наверняка снова появилось бы огромное вознаграждение. Во всяком случае,
не зарабатывать за год ничего — не было для него проблемой.
При этом в начале сезона совсем не было фактом, что Williams, безусловно, является
мерилом всех вещей. Машина была теперь более нервной в балансе настроек и норовисто
реагировала на малейшие изменения клиренса. Несмотря на сходы в первых двух гонках,
Бразилии и Аиде, это выглядело только вопросом времени. Сенна скоро взял бы под
контроль инженеров так, чтобы они создали для него лучший во всех отношениях
автомобиль, способный завоевать два чемпионских титула подряд. Блестящий стиль, в
котором он без раскачки взял поулы в Интерлагосе, Аиде и Имоле, смотрелся как знак
предстоящего золотого времени.
Имола, 30 апреля 1994 года, квалификация, суббота, после полудня.
Я сидел в боксах в машине, пристегнутый, готовый к выезду. Передо мной был
монитор, так что я смотрел на то, как Роланду Ратценбергеру делают массаж сердца. Уже
по движениям санитаров я мог понять, что случилось. Я был не в себе, выбрался из
машины, пошел в моторхоум, дрожь пробирала меня. Впервые я столкнулся с тем, что
кто-то погиб в гоночном автомобиле. Во все мое время в Формуле 1 не случалось аварий
со смертельным исходом. Я видел только две возможности: сразу ехать домой и забыть
весь этот спорт, или «переключить тумблер» и что-то себе внушить. Например, если ты
погибнешь, как Роланд, то сделаешь это во время того, что считаешь своим самым
любимым делом в мире. Такие вещи были у меня в голове, и нужно было быстро что-то
решать. Я вышел, забрался в машину и проехал быстрый круг, как будто для самозащиты.
Позже телеметрия показала, что Simtek Роланда Ратценбергера врезался в
ограждающую стенку на скорости 308 км/ч. После оказания первой помощи Роланда на
вертолете отправили в госпиталь Маджиоре в Болонью, но шансов уже не было.
Трагедия произошла в повороте “Вильнев”, менее чем в 500 метрах от места моей
аварии пять лет назад. Многое говорит о том, что обе аварии имеют одну причину:
поломка переднего антикрыла, отсутствие прижимной силы, неуправляемый автомобиль.
Где-то глубоко в сердцах мы все надеялись, что золотой век Формулы 1 вечно будет
продолжаться без смертельных аварий. И вот теперь именно Роланд! Он еще до приезда в
Имолу посетил меня на яхте в Монако. Мне нравились его естественный, открытый
характер и тихая радость, стремившаяся изнутри. Роланд находился на лучшем пути,
чтобы по-настоящему обогатить сцену Формулы 1.
Имола, 1 мая 1994 года. Йозеф Леберер, как обычно, находился на стартовой решетке с
Сенной, когда последний, уже в шлеме, сидел в машине. По громкой связи объявляли
стартовые позиции, при слове “Сенна” раздались аплодисменты, так же, как и при слове
“Шумахер”, особенные же аплодисменты раздались при слове “Бергер”. Йозеф мне
сказал, что эти особенные аплодисменты по-настоящему развеселили Сенну, во всяком
случае, Йозеф через стекло шлема мог видеть, что Сенна ухмыляется во весь рот.
На шестом круге я заметил мелькнувшую тень, автомобиль встряхнуло. Однако я не
мог почувствовать ничего серьезного, поехал дальше, и, прежде чем смог обдумать
ситуацию, увидел красные флаги: остановка гонки.
Я попросил проверить переднюю подвеску, сразу выяснилось, что повреждения
тяжелые, и конструкция держится на последнем волоске. Механики начали замену
деталей на стартовой решетке. Я узнал, что тот хаос, который я заметил уголком глаза в
повороте “Тамбурелло”, означал аварию Айртона Сенны. Машина должна была быть
удалена оттуда. И деталь, разбившая мою подвеску, явно происходила из оторванного
переднего антикрыла автомобиля Сенны.
Насколько тяжела была авария?
Никто здесь сказать не мог. Мониторы в боксах подключены к внутренней сети трассы,
любой телезритель в мире в этот момент имел лучший обзор ситуации, по меньшей мере,
мог констатировать, что речь не шла об инциденте, случавшемся дюжинами, а
действительно о серьезном происшествии. У меня, во всяком случае, не было проблем с
тем, чтобы выбросить это дело из головы, как обычный инцидент, какие случаются часто.
Я концентрировался на повторном старте.
Перед стартом я спросил еще раз про Сенну. Ответ был: “Да, он пришел в сознание и
как раз встал”. Я подумал подсознательно: “…встал и ушел… он знает, как заканчивать
шоу”. Потом ко мне подошел Берни и сказал “shit weekend”. Я спросил, что случилось. У
него с собой была рация, и он хотел вызвать профессора Уоткинса, но тот как раз был
занят делом, пока рация трещала, а я постарался сконцентрироваться.
Новый старт, никаких мыслей про Сенну или про что-то ужасное. Через несколько
кругов я обогнал Шумахера и стал таким образом лидировать. Вдруг в “Аква Минерале”
заднюю часть машины занесло, и Шумахер прошел меня без особого сопротивления с
моей стороны. Я хотел сначала проверить, что там с машиной. На прямых я видел в
зеркале заднего вида искры и думал: “В том, что я не видел их раньше, виноват сам —
замечтался или что?” Где-то глубоко в мозгу гонщика такие отклонения понимаются:
надеюсь, это не slow puncture [медленный прокол]. Я подумал, что надо сразу заменить
колесо, хотя остановка и планировалась тремя-четырьмя кругами позже, и так и сделал.
При выезде я почувствовал недостаточную поворачиваемость, которой раньше не
было, и не был уверен, что было причиной – новые шины или дозаправка. Машина стала
тяжелее, мне пришлось менять точки торможения. В быстрой шикане, где Баррикелло
попал в свою безумную аварию, машину опять занесло, я вылетел на газон и все еще не
был уверен – что-то случилось с машиной или я просто слишком быстро ехал в новых
условиях. Что-то подсказало мне – сейчас пойдет быстрая прямая, совсем ни к чему,
чтобы что-нибудь случилось с тобой там.
Так что я заехал в боксы для проверки. Парни полагали, что все в порядке, но я сказал:
если мне кажется, что что-то не в порядке, то все хорошо быть и не может. В этот момент
подошел Жан Тодт и сказал: ”Вылезай”.
Позднее он говорил: ”Я увидел, что ты хочешь выйти из машины.” И я на самом деле
этого хотел.
Потом я забился в боксы и вдруг почувствовал, что все так тихо, хотя снаружи гремела
гонка. Каким-то необъяснимым образом я понял, что Айртон Сенна лежал при смерти…
Наконец первые известия о серьезности положения просочились и в боксы. Можно
было понять, что Сенна еще боролся за жизнь, но битва, собственно, была уже проиграна.
В этот момент у меня было единственное чувство: я хотел увидеть его еще раз. Я не знал,
что ожидал от этого, но просто непременно этого хотел. Брага и мой отец организовали
вертолет компании Marlboro, который доставил нас в больницу Болоньи.
То, что я снова понял в клинике — борьба врачей была безнадежной, но еще не
закончилась. Я ждал какое-то время, казавшееся нам бесконечным, затем Йозефа
Леберера и меня пустили к нему. Айртон был покрыт зеленой простыней, не закрывавшей
часть раны на лбу. Рука и нога, которые я видел, были, по моим ощущениям, рукой и
ногой мертвеца. Два или три врача принялись за работу в области повреждений на лбу, и
мы опять не поняли, жив ли еще Айртон.
Эта неясность меня очень сильно беспокоила в дальнейшем, поскольку обстоятельства
всех этих смутных сведений были какими-то странными. Позднее развернулась
дискуссия и, прежде всего из Бразилии, раздались тяжелые обвинения в том, что имели
место манипуляции со временем наступления смерти, чтобы не отменять проведение
гонки. А я некоторое время подозревал, что сам был использован для подтверждения
более позднего момента времени. Это дело оставило для меня открытыми странные
вопросы, но не настолько, чтобы позволить себе серьезно сомневаться в официальных
данных. Кроме того, главный врач Сид Уоткинс был настоящим другом Айртона, он не
согласился бы ни на какие манипуляции.
Йозеф Леберер остался в больнице и с того времени был с Айртоном Сенной по
настоятельному желанию семьи. Он сопровождал гроб к самолету, сидел в нем рядом с
гробом и до погребения был с Айртоном. Это было бесконечно глубокое прощание.
Моя мать часто использует речевые обороты, на которые я обращал внимание потому,
что абсолютно не мог понять их смысла. Самое большее, я мог их бессмысленно
повторять, как попугай, и думал, что возможно когда-нибудь я пойму, что на самом деле
имелось в виду. Одним из этих выражений было: “я шокирована”. Когда я проснулся на
следующий после смерти Сенны день, я впервые понял, как это может быть.
Это как будто быть глухим в зловещей пустоте, и если я смотрел вокруг и пытался
вслушиваться, все также было пустым.
Что за невероятно ужасные выходные: в пятницу Баррикелло на 240 км/ч врезается в
защитные покрышки, видеозапись – настоящий кошмар. В субботу Ратценбергер, в
воскресенье – авария на старте, при которой оторвавшееся колесо улетело в зрителей и
тяжело ранило одного человека в голову, потом авария Сенны, да еще, когда я был в
боксах, три механика пролетели мимо от удара оторвавшегося при выезде из боксов
колеса, небрежно закрепленного на машине Альборето.
Это скопление драм показало чудовищную негативную силу, которая вдруг
высвобождается, если двигаться в неверном направлении. Хорошие времена Формулы 1
оказались будто стертыми.
Размышлять – единственное, что я мог делать.
Ожидал ли я при взгляде на мертвого друга получить в подсознании совет, как мне
самому быть дальше? Если бы я в последующие дни решил, что это подходящий момент
для ухода из спорта, то боролся бы сам с собой. И тогда эта картина облегчила бы
принятие решения… лучшего, более верного… наверное, тем же способом, как если бы,
когда ужасно боишься наркотиков в отношении собственного ребенка, то берешь его и
отводишь в место, где есть наркозависимые больные, для того, чтобы напугать. Но из
ситуации в больнице я не получил никакого указания, просто был рад, что еще раз смог
увидеть Айртона. Повреждения черепа, насколько было видно, совершенно не
смешивались с картиной погибшего друга, он остался навечно невредимым.
Впечатления от Айртона Сенны.
Я полагаю, что он был счастлив. Даже уверен. У него была такая же чудесная жизнь,
как у меня, и плюс еще три чемпионских титула. Я не знаю, может быть, он хотел стать
чемпионом шесть раз, чтобы обогнать Фанхио. Но это было все, чего ему могло не
хватать.
В нем было что-то сверхъестественное. Излучение, как будто он пришел с другой
планеты, и поэтому у него больше кругозор, больше клеток мозга, больше силы, больше
энергии. Если он и не имел принципиальной ауры сердечности, тем более панибратства,
но в его внешности, глазах, улыбке было столько харизмы, что люди не только
восторгались им, но и любили его.
Он поднял планку в Формуле 1 на целую ступень выше. Он проводил техническую
работу, как Лауда или Прост, на недостижимой до тех пор высоте.
Для нас он являлся кем-то выше всяких подозрений, что означало в некотором роде и
неуязвимым, но я не думаю, что он себя видел именно таким. Он не обладал безумной,
окончательной неустрашимостью, как Жиль Вильнев. Он часто подходил ко мне с
компьютерной распечаткой, на которой было видно, что я проехал такой-то поворот на
полном газу, и говорил: «Ты рехнулся. Если ты там вылетишь, то…». Нет, абсолютное
бесстрашие не было его сильной стороной. Он был не «диким псом», а превосходным и
самым концентрированным гонщиком, с огромной перспективой, которого не с кем и
сравнивать. Его смерть для Формулы 1 была настоящим падением солнца с небес.
Вопрос о причине аварии по-настоящему не прояснить, по крайней мере, не с той
уверенностью, которая могла бы убедить весь мир. В конце концов, не помогло и
дорогостоящее судебное разбирательство в Италии тремя годами позже.
Единственный аспект однозначен. Зона вылета в районе поворота “Тамбурелло” была
слишком опасной и не соответствовала стандартам безопасности, которые просто
требуются Формуле 1. Никогда нельзя будет исключить аварии из-за дефектов или
человеческих ошибок, так что хотя бы зоны вылета должны быть соответственно
приспособлены.
На видеосъемке было видно, что машину подбросило на неровности (что еще ни о чем
не говорит), затем она не зашла в левый поворот, а разбилась при движении по прямой.
По данным телеметрии, скорость при столкновении была 264 км/ч. На мой взгляд, все
указывает на поломку рулевого управления. Фото, позднее опубликованное в одном
бразильском журнале, подкрепляет это мнение. Там по плечам и рукам видна типичная
поза пилота, поворачивающего влево, но передние колеса остаются направленными
прямо.
Я полагаю, что важно знать действительную причину, но только для самой команды,
для технических специалистов, которые должны извлечь отсюда урок. Делать из этого
судебный спектакль с далеко идущими последствиями – противоречит самому духу
Формулы 1. Все ее участники пускаются в рискованное мероприятие и одновременно
делают все, что в человеческих силах, чтобы минимизировать этот риск. Если начинают
искать криминал в не поддающихся учету случайностях, опасности подвергается вся
Формула 1. Мертвому, конечно, все можно приписать, но я думаю, в том, как Сенна
представлял себе свой спорт, не было бы места для судебных разбирательств.
Похороны в Сан-Паулу не имели ничего общего с обычными похоронами, это было
нечто большее, как и сам Сенна. От каждого красного ковра до каждого самолета,
грохотавшего в небе, и до белого платья матери, все было “по-сенновски”, как будто он
дирижирует, показывая, кто что должен делать. В дни после его гибели у меня в глазах
стояли слезы, а вот во время самих похорон – определенно нет. Это было больше, чем
торжественный парад, как если бы народ благодарил своего короля, который привел к
победе в битве. Даже его отец не плакал при погребении, это и не должно было быть
печальным, а чем-то другим, чем-то более высоким и мистическим. И, тем не менее, все
было настроено, стильно, и еще раза в три усиливало тот миф, который был у Сенны уже
при жизни.
Перед похоронами вновь разгорелись дискуссии, не было ли неправильно установлено
время смерти. Дело в том, что для организатора гонок, особенно в Италии, намного
проще, если смерть пострадавшего в аварии будет констатирована не на месте, а после
транспортировки, например, в больнице. В противном случае трасса должна быть сразу
же закрыта, а новый старт невозможен.
Брат Сенны в первую очередь обвинял во всем Берни Экклстоуна. Он был убежден, что
Айртон погиб на месте. Я уже упоминал выше, что данные того дня на самом деле были
неясными, с другой стороны, должна была существовать целая цепочка людей, чтобы эта
ложь воплотилась, а в это я действительно не верю.
Я принял в этом сомнительном случае сторону Экклстоуна и считал неправильным, что
его, несмотря на приезд в Бразилию, не допустили на погребение. Помимо оскорбления,
это была очень печальная ситуация. Приглашенных на похороны гостей из Европы
отвозили на машинах и автобусах из отеля, группа ожидающих становилась все меньше,
пока в конце не остался один Берни Экклстоун с женой. Все-таки я знал, что Айртон и
Берни были в хороших отношениях. Несмотря на деловые конфликты, они уважали друг
друга и даже любили. Если Сенна, в конце концов, поднялся до уровня бога автоспорта, то
был же и Экклстоун, который предоставил ему в распоряжение сцену соответствующих
огромных размеров. И Сенна знал это очень хорошо. Я полагаю, что, если бы Сенна мог
наблюдать это сверху, то, очень вероятно, пригласил бы Берни на похороны.
Тем более странно было, что Прост и Стюарт, которых Сенна всегда воспринимал как
своих врагов, шли в первых рядах процессии. Только Нельсон Пике остался верен самому
себе и далеко от похорон.
Через два дня после Имолы мне позвонили из Ferrari. Мою машину обследовали и
выяснили, что сломался и потерял газ задний амортизатор. Кроме того, был сломан рычаг,
и уже проявлялись симптомы косвенного ущерба.
То, что я из-за нехорошего чувства прекратил гонку, я связываю с Сенной потому, что
обычно игнорирую подобные ситуации и просто пробую, не получится ли все-таки
продолжать. Это было впервые, чтобы я из-за раннего неопределенного ощущения поехал
в боксы. Я не суеверен, но думаю, тем не менее, это было нечто, связанное с телепатией и
с Сенной.
Я целыми днями пребывал в размышлениях. Скорбь по Сенне смешивалась с полной
неуверенностью касательно моего будущего. Возможно, я просто боялся. Как гонщику,
мне трудно говорить про страх, поскольку тогда ты в ту же секунду должен завязать с
гонками.
Как бы то ни было, я думал о вещах, которые меня раньше не занимали, например, о
том, что в последнее время из моих тяжелых аварий и почти катастроф можно было
выстроить настоящую серию.
1993 год: столкновения с Андретти (Интерлагос), Хиллом (Монако), Брандлом
(Будапешт), Бланделлом (Спа), все достаточно безобидно, но затем тяжелая авария на
тестах в Имоле, потом – невероятное недоразумение с Алези на последнем круге в Монце
на скорости 330 км/ч. Ну теперь с меня хватит, думал я тогда, поскольку когда-нибудь
твое счастье пройдет мимо. Однако я опять сел в машину, и одной гонкой позже, в
Эшториле, выезжаю из боксов, а тачка сворачивает в сторону, потому что был
неправильно запрограммирован компьютер, и я проезжаю между двумя машинами,
шедшими на скорости 310. В обычной ситуации понадобился бы компьютер НАСА,
чтобы просчитать, как ты там пройдешь, а я опять сижу дома, и со мной ничего не
случилось, так что потом опять начинаешь размышлять.
Ведь статистически есть известное число удач и неудач. И если первая часть удается
так хорошо, как мне, то когда-нибудь автоматически начинается второй статистический
ряд, то есть неудачи. А теперь вот Имола снова с двойной порцией везения. Подвеска
после удара о крыло Сенны держалась только на маленькой детали, а я ехал между тем
260, 270 км/ч, и, если бы не появился красный флаг, то что-то случилось бы как раз на
месте аварии Сенны, поскольку там нагрузки на материал максимальны.
С другой стороны, у меня была огромная проблема с размышлениями о немедленном
уходе из спорта. У меня не хватало фантазии представить что-то, что в состоянии было бы
заменить гонки и заполнить мою жизнь. Поэтому я не хотел решать опрометчиво, а как
можно дольше вслушиваться в себя.
Во мне не было ненависти к Формуле 1, скорее онемение и пустота. Невероятная
пустота. Я положился на волю волн. Куда они меня вынесут? Тогда, в мае 1994, я думал, я
узнаю это, когда такая ситуация возникнет.
Через двенадцать дней после смерти Роланда Ратценбергера и через одиннадцать –
после смерти Айртона Сенны, в тяжелую аварию попал Карл Вендлингер.
Это было в четверг, на тренировке в Монако, на 22-м круге, портовая шикана. Выход из
туннеля, через неровности, телеметрия Sauber показала 262 км/ч в точке торможения.
Перед этим он очень легко коснулся отбойника справа, во всяком случае, машину подняло
всеми колесами в воздух, и можно себе представить, как быстро они вращаются при 260
км/ч. Одно колесо коснулось земли раньше остальных, и вот машину разворачивает
вправо. Sauber влетел со скоростью около 150 км/ч боком в угол, образованный
отбойниками и амортизированный тремя рядами пластиковых емкостей. Карл был
извлечен из останков машины и доставлен в клинику. Он находился в коме, состояние
было тяжелым, и он оставался в нем очень, очень долго.
Я хорошо относился к Вендлингеру. Он родом из одной старинной гоночной семьи из
Куфштайна, там все, вплоть до прадеда, уже участвовали в гонках. Когда я начинал
гоняться, его отец был еще активным гонщиком, и мы часто встречались в Куфштайне,
чтобы ехать на гонки. Парень, если не было занятий в школе, был, конечно, здесь же и
предпочитал быть в моей машине, а не с отцом. Потом он логичным образом тоже начал
заниматься гонками, и я помогал ему. Все шло хорошо, начиная с картинга, продолжая в
Формуле Ford, пока он вместе с Шумахером и Френтценом не попал в юниорскую
команду Mercedes и не получил так контакт с Sauber.
Мы двое были как день и ночь. Он спокоен, сдержан, славный парень. Как гонщик он
не был быстро стартовавшим, ему требовалось время, но потом мог невероятно пробиться
вверх, у него был спокойный, чистый стиль вождения. Поскольку мы одного роста – 185
см – то имели одинаковые мучения с позицией в машине Формулы 1.
В этих кошмарных условиях прошла гонка в Монако, победил Шумахер, Бергер третий,
да это было совершенно не важно. Мы переживали агонию Формулы 1.
Ferrari II
1993, 1994, 1995
Начать с чистого листа в 1993 году в Ferrari я считал хорошей мыслью по многим
причинам.
Во-первых, из-за денег. За несколько лет Ferrari превратилась из наихудшей в
наилучшую оплачивающую команду, по крайней мере, для гонщика номер один. Это
соответствовало пропасти между постыдным отсутствием успеха и давлением на них.
Во-вторых, потому что Ferrari — это все-таки Ferrari, со всеми чудесными эмоциями, за
этим скрывающимися.
В-третьих, в мои 34 года и с опытом Сенны я чувствовал себя достаточно взрослым и
технически зрелым, чтобы вывести безнадёжную команду из кризиса. Причина кризиса
была не в самом длинном периоде без побед в истории в Ferrari, это был только симптом.
Значительно хуже было отставание в технологиях и принципиальный недостаток
мощности. Среди инженеров многие работали уже целую вечность и большую часть из
них абсолютно не интересовало, что за чудеса в это время разрабатываются в Англии или
Японии. Миф Ferrari между делом отрастил себе жирный зад.
Самые сообразительные были слишком хорошо оплачиваемыми, чтобы высовываться.
Было много привилегий и мало творческого потенциала, не говоря уже о конфликте
личных интересов. Старый принцип игры в водное поло (ударов под водой не видно), о
котором писал еще Ники Лауда, цвёл пышным цветом.
Когда президентом Ferrari стал Лука Монтеземоло, гоночный директор Ferrari первых
лет эры Лауды, он сразу же восстановил старые связи и взял Ники в советники. Это было
правильно в той степени, что Лауда не заботился об итальянских интригах, говорил
прямым текстом и мог пробить заплесневелые структуры. С другой стороны, он, как
правило, занимался диагностикой на расстоянии, потому что Ferrari была для него
работой по совместительству, наряду с его авиалинией и, конечно, это делало ее менее
эффективной. Но все-таки он понял, что нужно вернуть Барнарда, и необходим такой
гонщик как Бергер, который мог бы сообщить инженерам, что-то умное и подтолкнуть их
вперед. Гоночный гений Жан Алези должен был остаться, с Капелли расстались, Ларини
остался в резерве.
Итак, я согласился на эту работу, рассматривал 1993 как подготовительный год и
ожидал в 1994 роскошного урожая, в самом худшем случае еще годом позже.
Договор был, как обычно, подписан еще в середине прошлого сезона и у меня осталось
достаточно времени, чтобы собраться с мыслями. Больше всего меня беспокоил мотор
Ferrari. Он был явно слабоват, но даже упоминание об этом задевает гордость итальянцев.
Проще сказать, что у Папы есть любовница, чем то, что мотору Формулы 1 не хватает
лошадей. Нашему славному президенту я так действовал на нервы своими заявлениями
«Вам не хватает 100 л.с.», что он перестал подходить к телефону.
Для человека, который пришёл из McLaren и еще хорошо помнил всю мощь Honda, это
было особенно болезненно. Японцы ушли, хотя (Honda говорит «потому что») у них был
самый чудесный мотор Формулы 1. По поводу Гран-при Японии я отправился обедать с
президентом Honda Кавамото.
Кава огромный поклонник автоспорта и, кроме того, фанат Бергера, поэтому мы
говорили довольно откровенно. Он сказал, что Honda ни в коем случае не вернётся в
течение следующих четырех лет, и я забросил удочку: мог бы он себе представить
продажу части своих технологий такой фирме, как Ferrari? Кава отреагировал вполне
положительно, заговорил о возможном обмене, так как его в свою очередь интересовали
кое-какие вещи в Ferrari. Слово «Ferrari» всегда творит в Японии чудеса.
Дома я посвятил Монтеземоло в свою идею. Он назвал меня сумасшедшим, типа того:
«Как это будет выглядеть? Ferrari с технологиями Honda, ты что, рехнулся?». Это было
главным: что люди скажут?
Я ответил что-то вроде того, что речь уже давно не идет об эго фирмы, а о возможном
результате. Я уже немного понял, что такое глобализация. Как бы то ни было, Лука
пообещал подумать.
Первая реакция: «Как бы нам устроить, чтобы посмотреть все это поближе?»
Лично Монтеземоло не в коем случае не хотел привлекать к себе внимания. Зато Лауда
вызывал сравнительно мало подозрений, и поэтому на рождество 1992 года Ники
отправили в Токио. Он был просто в восторге от всех перспектив, так как и он был
принципиально против всех проблем, связанных со сложным эго Ferrari. Лауда был
прагматик, без особого эго. Для него значение имели факты. А достижения Honda в
области переменных диффузоров, охлаждения головок цилиндров и пневматического
привода клапанов были абсолютно недостижимы (или слишком поздно) только ресурсами
Ferrari.
Лауда действительно выработал с Кавамото рамки, в которых мог происходить обмен
технологиями без потери лица для Ferrari. Я думаю, что это было самым главным.
Заголовка «Ferrari покупает ноу-хау Honda» Монтеземоло не пережил бы.
Сделка была заключена, технологии перетекли с востока на запад и наши моторы
действительно в течение полугода совершили рывок в 80 л.с. (до примерно 750 л.с., при
тогдашнем объеме двигателя в 3,5 литра). Наш шеф по моторам Ломбарди хотя и
официально поблагодарил, но я уверен, что в душе он проклинал и меня и мои идеи, и
каждую деталь Honda.
Между делом обнаружилось, что общая ситуация еще хуже, чем я опасался. Первые
тестовые заезды были просто катастрофой, а ответственные Постлтуэйт и Ломбарди не
производили впечатления людей, желавших что-то по-крупному изменить. Я казался себе
помехой в их неторопливых инженерных карьерах.
Как только мог, я с головой окунулся в политику и ежедневную работу с тестами и
техникой.
Руководство или, вернее, «неруководство» командой было таким хаотичным, что даже
директор “цирка” Экклстоун, кажется, начал беспокоиться о своем гвозде программы —
Ferrari. Как бы то ни было? Он нашел человека, который пришел из ралли и тогда еще был
спортивным директором Peugeot: Жана Тодта. «Это тот человек, который нужен Ferrari», сказал
он.
Меня это не особо обрадовало, так как французская ось Тодт/Алези вряд ли бы была
мне полезной. Я и без того сделал ошибку и слишком мало внимания уделил своему
коллеге по команде. Так как мы сражались только за шестые или десятые места, а первые
два стартовых ряда были для Ferrari табу, то внутрикомандное соперничество было скорее
второстепенным. Из-за общих проблем я значительно дружелюбнее, чем обычно,
относился к Алези в техническом и тактическом плане. В то время он еще ничего не
соображал в технических связях, и было бы легко оставить его без помощи.
Вместо этого Алези показал себя немного лучше, чем я (пусть даже и без результатов),
потому что его стиль вождения больше подходил для активной подвески, которая в то
время превратила Формулу 1 в сумасшедший дом.
Как бы то ни было: Монтеземоло и Лауда были за Тодта, и с июля 1993 года у Ferrari
появился новый спортивный директор.
Мои первые опасения оказались безосновательными. Тодт относился со здоровым
скептицизмом ко всему, что происходило в Ferrari, и пока что предпочитал ознакомиться с
материалом. После этого мы сразу нашли общий язык и никогда его не теряли.
Сегодня я знаю, что возвращение Ferrari задержалось дольше, чем можно было
предполагать, и что оно, несомненно, началось в тот день, когда пришёл Жан Тодт.
Кошмар номер один (это действительно был не мой год): квалификация в Монце.
Это тринадцатый этап чемпионата мира и, наконец-то готов наш четырехклапанный
мотор. Мы снова более-менее участвовали в борьбе, в течение сезона Ferrari, бывало, не
хватало до лидеров четыре секунды. Лидеры — это значит Прост (Williams-Renault) и
Сенна (McLaren-Ford), временами уже и Хилл (во втором Williams), и Шумахер (Benetton-
Ford).
Итак, наконец-то свет в конце туннеля.
Квалификация окончена, вывешены флаги, а я еще на трассе. Перед финишной линией
я развил полную скорость, чтобы получить время на Т1 и Т2, просто для нашей
внутренней информации, потому что к концу квалификации я кое-что испробовал. На
трассе сейчас замеряются три временных отрезка — Т1, Т2 и Т3, и соответствующее
время позволяет сделать некоторые выводы.
На послефинишном круге нет ограничения скорости, лишь бы ты вписался во въезд в
боксы. Я на полной проехал Т1 и Т2. В самом быстром месте трассы, на скорости почти
330 км/ч, я вижу перед собой Алези, который едет обычный послефинишный круг и на
правильной траектории. Я присосался к нему, что бы потом обойти, как во время
нормальной гонки. Жан в последний момент смотрит в зеркало заднего вида (он махал
фанатам, ведь мы все-таки в Монце), пугается и хочет освободить идеальную линию, но
уже слишком поздно. Он выехал прямо на облюбованную мною траекторию, я вижу его
заднее колесо и думаю «Только не это!»
Это сидит глубоко в подсознании каждого гонщика: только не через заднее колесо!
Если я на скорости 330 наеду своим передним колесом на его заднее, я обязательно
взлечу. Что случится, потом мы все хорошо знаем, кроме всего прочего, по смертельной
аварии Жиля Вильнева. В моем случае я бы улетел примерно до Сиднея.
В эту секунду ты не в состоянии думать, что ты хочешь сделать, только чего ты не в
коем случае не хочешь, остальное происходит автоматически и без влияния со стороны
гонщика.
Только не на колесо! Я вывернул машину, пролетел на пару сантиметров мимо заднего
колеса, но это уже самая последняя возможность подкорректировать. Потом удар в стену
(328 км/ч как потом скажет телеметрия), к счастью под острым углом, машину
вышвырнуло обратно, теперь уже в воздухе и полную вращательной энергии. Как ротор
вертолёта машину крутило над трассой, так быстро, что я почти потерял сознание. Между
тем снова и снова короткие удары о землю, как плоский камень, который танцует по
поверхности воды. Я не знаю где я и куда лечу, машина не становится медленнее и летит
над зоной безопасности трассы.
Правда, что в такие моменты возможно думать?
В некотором роде, да. Первая мысль: избежать колеса, потом: ааа, ты этого не
переживёшь, это не становится медленнее, теперь будет бум, ух, боком, теперь сломаю
хребет.
Удар был жесток, наверняка на скорости больше 200 км/ч хотя и смягчённый пятью
рядами шинного барьера. Первым делом я попробовал слегка пошевелить головой, да, и
еще раз, шевелится, но перед глазами круги, а одним я почти ничего не вижу. И вот уже
подбегают люди, чтобы вытащить меня из обломков. Я сажусь, чтобы попробовать пару
движений, все в порядке, вот только глаз отказал. Быстро прибыла машина скорой
помощи, доставила меня в госпиталь на трассе, и через десять минут глаз снова
заработал. Еще часом позже врачи вынесли вердикт: все в порядке.
Я был одеревеневшим и сломленным, но не было причины не участвовать на
следующий день в гонке. Все равно я быстро сошел из-за какого-то дефекта.
Что касается Алези, то не имело смысла махать кулаками после драки. Как раз из-за
ужасных аварий, которые уже случились, у нас в Формуле 1 есть правило никогда не
менять своей траектории, только в непосредственной борьбе, когда сходишь с идеальной
линии на боевую. В данном случае наша разница в скорости была примерно 200 км/ч, в
таких обстоятельствах нельзя менять линию, даже из самых лучших побуждений.
Также не вызывает никаких сомнений, что я обязан жизнью шасси из углеволокна.
Тогда нам приходилось выслушивать, что гонщики стали слишком легкомысленны,
потому что каждый полагается на страховку в виде практически неуничтожимого
монокока из карбона. Возможно, в подсознании и есть такая утешающая мысль: если чтото
случится, возможно, все равно удастся выжить. Но я не могу припомнить ситуации,
чтобы я по этому специально рисковал больше. А в данном отдельно взятом случае мне
бы ничего не помогло, если бы я взлетел над задним колесом Алези.
Кошмар номер два: Эшторил, всего лишь через две недели после Монцы.
Как будто бы общего кризиса Ferrari было мало, к этому добавлялась абсурдность
активной подвески колёс. Это было то время, когда регламент разрешал машине
электронно запоминать протяжение трассы. Машина могла затем распознавать это
протяжение и с помощью также заложенных в память приказов самостоятельно
производить изменения в шасси, на полной скорости.
Например, среди запрограммированных функций было опускание шасси. Если машина
«узнавала» длинную прямую (и знала: здесь не будет ухабов), она опускала клиренс на
пару миллиметров, таким образом, улучшалась аэродинамика, и машина могла
разогнаться на 5 км/ч больше, скажем до 330 вместо 325 км/ч. Это могло стать решающим
в вопросе, рискнуть ли к концу прямой пойти на обгон или нет.
Наши компьютерщики сделали маленькую ошибочку: они забыли запрограммировать в
машину кроме финишной прямой, еще и проходящую параллельно альтернативу: въезд в
боксы. Электронный мозг просто не знал, что я находился на волнистой дорожке перед
боксами, он утверждал, что я теперь на длинной свежезаасфальтированной прямой и
давал приказ опустить шасси. Речь идет о всего лишь паре миллиметров, то есть об
операции, которую не чувствуешь.
В то время на тренировках в боксах было ограничение в скорости в 50 км/ч и никакого
ограничения в гонке. Таким образом ошибка в программе осталась пока что
необнаруженной.
Когда я в гонке въехал в боксы, машина уже на подходе вела себя странно, но я
подумал что проблема с шинами, а их все равно сейчас заменят.
На полном газу выезжаю из боксов, через ухабы на главную трассу, на скорости
примерно 200 км/ч. Внезапно машина поворачивает под прямым углом, без повода и
абсолютно неуправляемо, мчится поперёк трассы и врезается в стену на противоположной
стороне. Я вообще ничего не понял, вылез и ушел. И тут же подбежали растерянные люди
и поздравили меня со вторым рождением.
Все прошло так быстро, что я даже не заметил, как обстояло дело с поперечным
движением.
Выяснилось, что я точно пролетел между двумя машинами, похоже, в единственно
возможную сотую долю секунды. Когда машина на скорости в 200 км/ч пролетает в
просвет между двух других машин, идущих со скоростью 300 км/ч, ты просто не
успеваешь этого осознать. Оба других пилота точно так же, как и я, ничего не поняли и
близко не успели среагировать. Дерек Уорвик потом подошёл ко мне и сказал, что когда
он увидел меня сворачивающим, в его мозгу вспыхнуло: теперь конец. Потом он еще
добавил (это ведь было всего через две недели после Монцы): «Что ты придумаешь на
следующей гонке? Дальше уже некуда».
Верно. Когда я вечером посмотрел запись, мне стало по-настоящему плохо.
Невозможно выразить, как мала была вероятность того, что не произошло
всеуничтожающей, взрывной аварии. Не нужно компьютера NASA, чтобы это понять.
Миллионы телезрителей, конечно же, вообще не смогли все это себе объяснить: Бергер
вылетает из боксов и внезапно сворачивает влево. Ferrari же понадобилось время до
вечера, чтобы найти причину: ошибка в программировании. Для ухаба на выезде из
боксов клиренс машины был слишком мал, он задела его, потеряла сцепление с дорогой и
стала неуправляемой.
Я больше не захотел иметь дело с активной подвеской и потребовал для оставшихся
гонок обычную машину с амортизаторами и рессорами. Такие вещи в то время не были
предусмотрены в политике Ferrari и не разрешались. Когда же мне представился случай
сравнить, выяснилось, что на старой машине я был бы на секунду быстрее.
К концу сезона все закончилось: ФИА сама испугалась вызванных ею злых духов). В
любом случае, впечатляющим доказательством этих заблуждений осталась видеозапись из
Эшторила: Бергер и поперечное движение.
Последние аварии уже не прошли так бесследно, как более ранние. Мне пару раз
ужасно повезло, и мне бы не хотелось превысить отпущенный мне бюджет удачи. Чисто
статистически теперь один раз должно было и не повезти. С другой стороны, я верил, что
мое лучшее время как гонщика еще впереди. Так что покамест я на полгода отмахнулся от
глупых мыслей.
Жан Тодт между тем утвердился в роли спортивного директора. Возможно, при
правильном распределении ролей Лауда и Тодт сработались бы, но при таком президенте,
как Монтеземоло, это не просто. Он хочет наблюдать бурную деятельность по всем
направлениям, что не очень помогает избежать недоразумений. Все вокруг него, в том
числе и его друзья, знают как себя вести и рассматривают его как симпатичную райскую
птичку или в лучшем случае, как человека со вкусом и манерами.
С точки зрения Тодта ситуация выглядела так, что на гоночных выходных Ники гулял
по боксам, расслабленно давал интервью и снова улетал домой. Для человека, который
пашет по четырнадцать часов в день, чтобы в изнуряющей работе над мелочами сделать
машину быстрее, это не особо приятное зрелище. Кроме того, ему, вероятно, не нравилась
статья бюджета под названием “Лауда”, пусть даже Ники скорей производил впечатление,
что он просто по-дружески помогает своему старому приятелю Луке.
С точки зрения Ники это было чёрной неблагодарностью. Пусть он и не создал лично
Жана Тодта, он все же всеми силами способствовал его найму, и поэтому господину
гоночному директору следовало бы заниматься своим делом, а не интриговать против
Лауды и ставить под сомнение его стратегическую дальновидность.
Монтеземоло же думал по этому поводу то так, то эдак. Поэтому пока что все
оставались, так сказать, в свободном полете.
Ferrari сезона 1994 года называлась 412 Т1, была сконструирована Барнардом и должна
была сокрушить все и вся.
Какое там сокрушить: с удручающей регулярностью нам не хватало полторы секунды
до Williams-Renault (Сенна, потом Хилл) и до Шумахера на Benetton-Ford.
Возможно, это субъективно, но я думаю, что мы были бы чемпионами с большим
преимуществом, если бы не аэродинамическая труба. К сожалению, Williams и Benetton
решили доводить окончательную форму своих машин в бесконечной кропотливой работе
в аэродинамической трубе. Ferrari со своей стороны закрыли свою трубу и полностью
положились на технический гений Барнарда. Тот построил прекрасный, суперстройный
болид с поднятым носом, которому всего лишь не хватало немного аэродинамики.
Трудности начались с самого начала.
В качестве пожарного в течение сезона привлекли Густава Бруннера, вероятно, самого
талантливого импровизатора из конструкторов. Его модификации действительно
позволили нам к середине сезона приблизиться к лидерам. Барнард же между делом
планировал свой следующий гениальный ход.
Хоккенхайм 1994 возвышается подобно маяку над той эпохой Ferrari. Мне всегда
нравилась эта трасса, а трассе нравился я. Нашу машину, можно сказать, полностью
обновили, с одной стороны — Бруннер, с другой — новый рывок в моторных
технологиях. В Ferrari между тем пришёл из Honda Осаму Гото. У нас было 830 л.с. И
16000 оборотов, оставалось только добиться надёжности. В Формуле 1 это обычная
практика, сначала достигнуть рабочих характеристик и только потом живучести.
В общем, у меня уже было ясное предчувствие, что в Хокенхайме я выиграю. Если
вообще где-то, то здесь и сейчас. Мы все изголодались: Ferrari не выигрывали уже 59
гонок подряд, такого в истории фирмы еще не было. У меня же самого был перерыв в
полтора года.
Шумахер с большим преимуществом лидировал в чемпионате и восторги по поводу
Шуми достигли своей первой кульминации.
Затем все прошло даже как-то банально. У лучших по определению Williams что-то не
ладилось все выходные. Я занял поул, лидировал с самого старта, Шумахер сидел на
хвосте, не мог обогнать, но неустанно висел в моей аэродинамической тени до тех пор,
пока его мотор не задохнулся.
Теперь моей единственной заботой стало: выдержит ли наш двигатель. До сих пор он
не продержался ни единой гоночной дистанции, но в этот раз он был настолько
«феррари», как только Ferrari и может быть: силен, храбр и великолепен, и он
продержался до того момента, когда море желто-чёрных флагов на автодроме сменило
свой цвет, как будто все фанаты Шуми нашли свою вторую тайную любовь. Они сидели
на флагах Ferrari, теперь вытащили их и автодром весь стал красным. Как гонщик, ты
замечаешь самые удивительные вещи и это чрезвычайно бодрит.
О Ferrari можно говорить все что угодно, но одного нельзя отрицать: ни на какой
другой машине победа не является такой прекрасной.
Остаток сезона все-таки прошёл более приятно, чем начало, но о том великолепном
урожае, который я так ожидал, и речи не шло. Кроме того мы снова выбрали
неправильное направление на будущее. 3,5-литровую формулу сменила 3-литровая, а
Ferrari по-прежнему придерживалась и на меньшем обьеме двигателя 12-цилиндрового
принципа. Как выяснилось, это был потерянный год.
В начале 1995 года в Ferrari начал вырисовываться тот сценарий, который в конце
концов привёл к сделке с Шумахером.
Хотя я чувствовал себя в Ferrari как дома и между делом был в довольно хороших
отношениях с Жаном Тодтом, технической стороной дела я был по-прежнему не доволен:
общее направление, может, и было правильным, но все происходило слишком медленно.
Скачкообразность Луки Ментеземоло в его сообщениях для прессы тоже не делала
ситуацию легче и только вызывала ненужное возбуждение.
К тому я еще не совсем переварил свою ярость по поводу прошлогодних переговоров.
В то время у меня были плохие карты из-за моего дохлого сезона. Ни одной победы, ни
одного поула — а техническое давление, которое я без сомнения принёс в команду,
страдало от того, что я мало чем мог помочь в вопросе активной подвески. Алези с его
суперрефлексами в этих обстоятельствах смотрелся лучше меня, он сильно не
задумывался, зато имел талант справляться даже с самой сумасшедшей машиной.
Как бы то ни было, мне нечего было возразить, когда уже в начале 1994 года Ferrari
сократила мне зарплату на 1995 («общее плохое экономическое положение фирмы», и это
было верно). Со скрипом я согласился на понижение на третий год в Ferrari и теперь
жаждал реванша.
Между делом я мог похвастаться только одной единственной победой, но мое
положение было не в пример лучше: время сумасшедших машин прошло, я был быстр и
работал как никогда упорно над техникой. Я впрягался в любой воз, был готов на любые
тесты и спецзадания и полностью участвовал в текущей конструкторской работе.
Работники Ferrari это ценили, инженеры, равно как и Жан Тодт и Лука Монтеземоло. Так
что общее настроение было таким: Лука, договорись с Бергером, пока он от нас не сбежал.
На этот раз я решил отказаться от помощи Ники Лауды, потому что у меня возникло
ощущение, что Ferrari им манипулирует по собственному желанию. Он получал только ту
информацию, которая соответствовала политике Ferrari. Мне же подобное обхождение с
информацией не нравилось.
В конце концов, Монтеземоло предложил мне очень достойный годовой договор, в
котором деньги снова были на уровне. Он бы сделал меня самым высокооплачиваемым
человеком в Формуле 1.
Незадолго до подписания договора на меня нашло озарение, и я потребовал особое
основание расторжения, на случай если в команду придёт второй гонщик с зарплатой,
больше чем у меня. Никаких проблем, сказали господа из Ferrari, мы ведь и так платим
тебе такие дикие деньги, что платить еще больше мы бы были просто не в силах. Кроме
того, таких дорогих номеров вторых просто не бывает, так что ты можешь получить этот
пункт в договор.
Так и случилось, и договор на 1996 год был подписан еще до первой гонки сезона 1995.
О Шумахере как таковом я в то время даже не думал. Это была просто моя придурь, я
был горд тем, что на протяжении всей моей карьеры был первым номером в командах, за
исключением Сенны. Но Сенна — это был Сенна, с этим у меня не было проблем.
В какой-то момент возникла тема второго гонщика. С Алези хотели расстаться, потому
что из-за своей эмоциональности он был слишком недисциплинирован и непредсказуем.
Основной идеей было — за два года вырастить рядом со мной молодого пилота, который
после моего ухода занял бы место первого номера. Речь шла о таких именах, как
Барикелло и Сало.
Как-то Тодт спросил у меня, что я думаю о том, чтобы вернуть Проста. Были ли бы у
меня с этим сложности?
«Никаких проблем», сказал я, «даже наоборот, это было бы классно»
Я подумал о том, что с таким человеком как Прост, выиграла бы вся команда, а я бы
несмотря не на что, смог бы удержать его под контролем. Конечно, Проста никогда нельзя
недооценивать, но в 41 год он бы уже не имел той убийственной скорости, которой он
портил жизнь Ники 12 лет назад. Кроме того, меня интересовала финансовая сторона
сделки, возможно, возник бы свежий покер, на котором можно было бы еще немного
заработать.
Тут можно спросить, что может помешать фирме заключить тайный договор и назвать
третьим лицам неправильные суммы? Конечно же, действительно существует огромное
количество тайных предварительных договоров и условий, но это нечто совсем другое,
чем осознанно лгать своему партнёру. Слишком легко все может выплыть на поверхность,
и такая фирма, как Ferrari, вероятно, не рискнёт заполучить многомиллионный иск,
который можно только проиграть, если будет врать дальше. Мошенничество с договорами
такой категории сегодня являются скорее исключением, для этого империя Экклстоуна
слишком строго организована.
Весной 1995 все шло к возвращению Проста в Ferrari. Тодт поговорил с Аланом, и тот
проявил заинтересованность. Мне все это очень нравилось.
Однажды Монтеземоло между прочим спросил, что я думаю о Шумахере? Я сказал, что
с Шумахером у меня никаких проблем.
Потом я услышал от Монтеземоло и Тодта: «Ну ладно, мы должны для приличия хотя
бы спросить Шумахера, потому что он молод, и чемпион мира, и возможно снова станет
чемпионом, очень быстр, немецкий рынок между тем самый большой для Ferrari, у Fiat
выходит Bravo, это очень подходит, так что это наша обязанность — хотя бы поговорить с
ним, прежде чем мы закончим с Простом/Бергером».
Мне мало, что было возразить.
Лауда поговорил с менеджером Шумахера Вилли Вебером и в результате:
«Вебер совсем свихнулся. Он хочет 28 миллионов долларов в год. Я ему сразу сказал,
что про это может забыть.»
К этому времени Тодт уже добился того, что Лауду не посвящали ни в какие важные
дела и поставляли ему либо неполную, либо неправильную информацию. Я краем уха
услышал, что Тодт продолжает переговоры с Вебером.
Если я что-то и слышал от Монтеземоло или Тодта, то только то, что о Шумахере и
речи нет, поскольку о подобных суммах нечего и говорить.
Потом какое-то время я не слышал вообще ничего.
По утрам, когда я встаю, мне, как правило, приходят в голову умные мысли, и однажды
рано утром я почувствовал: пахнет Шумахером.
Все было слишком тихо, никакого обмена информацией, пусть даже неправильной. И о
Просте тоже уже почти не говорили.
Так что в Сильверстоуне я на пробу сказал журналистам:
«Шумахер подписал в Ferrari»
После этого в Ferrari разразился дикий скандал, и из этого посвяшенный человек может
заключить: это правда. Монтеземоло и Тодт были вне себя и попытались выставить меня
идиотом, но по их реакции я понял, что попал в точку.
Теперь я мог спокойно ждать, что Ferrari будет делать с пунктом моего договора о
большей зарплате.
Не произошло ничего нечестного: Тодт заключил с Шумахером в Монако
предварительный договор, и Ferrari была вправе держать его так долго в тайне, как им
хотелось. Но когда секреты Ferrari выходят на свет, они всегда ужасно возбуждаются и
автоматически все отрицают и тем громче, чем больнее им. Кроме того, в этом случае им
ещё надо было объяснить Шумахеру, что у них никто не проболтался, просто мне
доставляет удовольствие разболтать новости, которых я не мог знать.
Лауда, которого вообще не во что не посвятили, между тем обьявил меня
сумасшедшим и сказал газетам, что Бергеру следует не фантазировать, а посильнее жать
на газ.
В какой-то момент Ferrari пришлось признаться. Они, конечно, не могли потерять лицо
и подтвердить существование предварительного договора, а приближались к правде
постепенно, по крайней мере, по отношению ко мне. Общественности они не говорили до
последнего, так как Шумахер в Benetton сражался за чемпионство и ему не нужны были
лишние сложности.
Постепенно выкристаллизовалась правда о зарплате Шуми и это действительно были
28 миллионов, от которых перехватывало дыхание даже у людей, привычных к деньгам.
Конечно же, я на стороне победителей и радуюсь любому взлету зарплат, но
воспоминания о том, как в прошлом году Ferrari торговалась и давила вниз цену, меня
немного раздражали.
Сразу же после цирка в Сильверстоуне я начал прощупывать ситуацию в Williams. Все
выглядело неплохо, и Френк собирался сообщить мне о своем решении в Будапеште.
Однако там он мне сказал, что нанял Вильнева и не хочет выкидывать Хилла, так как
тот сейчас сражается за чемпионство. Похоже, я был недостаточно умен, чтобы окинуть
взглядом всю ситуацию в Формуле 1.
Самый умный ход я проглядел: то, что Берни Экклстоун хотел с помощью канадца
перекинуть мостик между американским и европейским гоночным спортом. Такого
пилота он, конечно же, мог поместить только в лучшую команду. Гениально со стороны
Берни, хорошо для Вильямса, супер для Вильнева, отвратительно для меня. Была ли самая
большая ошибка моей карьеры в том, что я действовал недостаточно решительно?
Возможно.
Тогда я впервые задумался о Benetton и то, что я надумал, выглядело неплохо.
Особенно на меня производили впечатление моторы Renault, абсолютно такие же, как у
Williams. Сразу же в первом разговоре с Флавио Биаторе мы хорошо и быстро
продвинулись. Однако подписывать я еще не хотел.
Наступил тот день, когда Ferrari наконец-то объявили мне, что они наняли Шумахера.
Ах, какой сюрприз!
Поскольку Шуми явно будет получать больше (намного больше) денег чем я, то в
соответствии с моим договором я в течении двух недель мог односторонне разорвать
контракт с Ferrari на 1996 год.
Я сказал, что считаю решение с Шуми для Ferrari отличным и это честно. Однако
другой вопрос, насколько хорошо это для меня, и я об этом подумаю. Тодт и
Монтеземоло, однако, считали это чистой формальностью и были во мне полностью
уверены.
С якобы лучшим положением Шуми в команде, как это описывала пресса (и как позже
было и Ирвайном), не было никаких проблем. У Шумахера в договоре был параграф, по
которому во всех вопросах, связанных с материалом или тактикой, он имел право «to get
the same or better»[получать такое же или лучшее] по отношению к другому гонщику. Это
очень практичный параграф для всех, и я бы мог отлично с ним жить. Так как по моему
договору было исключено худшее обращение (по отношению к кому бы то ни было), это
бы означало всего лишь равноправие.
Я же однозначно хотел лучшее решение в спортивном плане, и было тяжело выбрать
между Ferrari с Шумахером на шее и номером 1 в Benetton. Я пообедал с Монтеземоло, он
накинул еще миллион и был почти оскорблён, что я прямо за десертом не подписал, а
сказал: «Спасибо, я подумаю». Лука из тех людей, которые любят решать такие вещи в
ресторане за столом, свободно и непринуждённо.
Между тем вне команды Ferrari Шумахер/Бергер считали уже делом решённым, у всех
в бизнесе не было никаких сомнений, а у Ferrari тем более.
Я продолжил покер и они накинули еще, не только в зарплате, но и в общем комплекте
условий внутри команды. Я был очень удивлён, что Ferrari были в состоянии пойти на два
таких супер-договора, который в сумме на порядок превосходили все, что Формула 1
видела до сих пор.
Мысленно я еще раз представил себе, как оно было бы: само собой отличные деньги,
новый мотор V10, который выдаст без сомнения больше чем старый V12. С другой
стороны я и со старым уже так часто сходил, что же будет с новым? Значит, будет много
сходов, Шумахер и я вряд ли друг другу понравимся, а чемпионами мы не станем и так,
из-за детских болезней. Вообще-то еще одного такого сезона, как этот, я не выдержу, я не
хочу больше. Так что Герхард, плюнь на максимальные деньги, выбери лучшее решение с
спортивной точки зрения, Williams уже нет, остался только Benetton.
Итак, Benetton.
Я поехал к Флавио и сказал: если ты сделаешь хорошее предложение, я приду к тебе.
Его предложение было на порядок ниже Ferrari, но оно было достаточно честным.
В качестве маленького реванша за все то представление, которое устроила мне Ferrari,
теперь я тоже решил их удивить. Монтеземоло как раз сидел в своем бюро и вел
переговоры с Minardi по поводу 12-цилиндровых моторов, когда случайно увидел на
своем мониторе новость, что Бергер подписал в Benetton. Луку чуть не хватил удар, он
наорал на Жана, который не о чем не знал и был совсем сбит с толку. То есть сюрприз
удался.
Последовавший за тем театр длился только два дня. Монтеземоло ведь и сам знал, что у
нас был неоплаченный счет с прошлого года и теперь он был погашен. На этом вернулась
и обоюдная симпатия, пару дней спустя мы вместе пообедали и снова болтали и смеялись,
как и раньше. Лука даже сказал: Герхард, кого бы ты теперь взял вторым пилотом? Я
предложил пару имен, Ирвайн тоже был среди них.
Та легкость, с которой мы после месяцев лжи и обмана снова стали друзьями, показал
мне, насколько Ferrari стала моим домом. Мы хорошо подходили друг другу, и не успел
развод стать реальностью, я уже начал сомневаться, было ли это хорошей идеей. Со
спортивной стороны у меня было мало сомнений. Но в эмоциональном плане было
ужасно тяжело.Это как если у вас есть женщина, которая вам очень нравится, но которую
вы по каким-то причинам, которые не имеют никакого отношения к чувствам, все равно
должны бросить.
Эмоции по отношению к Ferrari не ограничиваются размахиванием флагами и
ношением кепок фанатами. Это и просто целый спектр любви, особенно среди
итальянцев. Как будто бы Ferrari является синонимом для «чувства», «любви», «страсти»,
«восхищения» и одно упоминание об этом задевает какие-то прекрасные струны, которые
уже не имеют никакого отношения к машинам или гонкам.
Как пилот Ferrari ты пытаешься держаться подальше от всего этого, иначе тебя сожрут
со всеми потрохами, просто от любви.
Вероятно, мне бы никогда не пришло в голову совершить просто развлекательную
поездку в Италию, скорее я предпочёл бы провести эти дни, расслабляясь в кругу семьи.
Но тут внезапно возникла забастовка аэродиспечеров в Италии.
Со мной был мой старый друг Бургхард Хуммель и его сын Зиги, которому я, как было
обещано, показал фабрику Ferrari. И теперь мы сидели с подрезанными крыльями в
Болонье: мой пилот, Хуммель 1, Хуммель 2, Бергер.
При обычных обстоятельствах у меня бы никогда не хватило фантазии совершить
романтическое путешествие, однако тогда мне пришло в голову: тут же недалеко до
Ричионе!
Ричионе — это волшебное слово из моего детства. Каждый год две недели каникул с
моим отцом, матерью, сестрой. Начинали мы в гостинице в четвёртом ряду и когда через
пару лет мы уже жили прямо возле пляжа я понял: наш отец кое-чего добился. (Неважно
первый ряд или четвёртый, Ричионе это самое классное место на земле).
Итак 1995 год: поедем-ка в Ричионе, посмотрим, стоит ли еще гостиница.
Гостиница еще стояла, с полами, покрытыми линолеумом и просевшими кроватями,
как раз подходящими к поводу путешествия. Обед в ресторане на пляже превратился
сначала в народное гулянье, потом в осаду: БЕРГЕР, FERRARI!!!!
Утром я вспомнил о картодроме, немного в стороне от Ричионе. Я сражался там
восьмилетним, и туда же пятнадцатилетним я совершил свое первое ностальгическое
путешествие: заехал на грузовике нашей фирмы. Ни у меня, ни у шофера не было денег и
мы заплатили единственной валютой, которая у нас была с собой.
Грузовик был загружен красным перцем.
В течении дня, в котором я отшлифовывал на картодроме Ричионе мои будущие
геройства, штабель ящиков с перцем рядом с домиком хозяина трассы все больше рос. Мы
нравились друг другу, я любил трассу, итальянцам нравилась моя езда, и это был
чудесный день. Когда мы отправились дальше в Вёргл, перец возвышался на несколько
метров в высоту.
Добрых двадцать лет спустя: существует ли вообще этот картодром? Отыщем мы его?
Мы его нашли, и при подъезде я попытался вспомнить тех двух типов из «перечного»
дня. Двух стариков, с точки зрения пятнадцатилетнего, один был шефом, другой
диспетчером.
Мы приехали на трассу, было утро, и еще не работали. Там были только двое: шеф и
его диспетчер, теперь уже действительно старики.
Они меня не узнали и мы начали гоняться, Зиги, Бургхард, пилот Стив и я. Я был в
ударе, и мы с Зиги провели жёсткий матч.
Между тем Бургхард Хуммель подсел к обоим старикам и начал с ними болтать. В
какой-то момент он спросил их об истории с перцем.
Да, сказали они, и подняли руки: «Вот на такую высоту возвышались ящики с перцем,
это был такой приятный парень».
Mы отпраздновали радость узнавания, они были очень обрадованы и тронуты.
Затем Бургхард Хуммель сказал: «Это тот самый Бергер, который ездит за Ferrari», тут
оба старика пустились в такие рыдания, что просто невозможно было выдержать.
Две последние гонки сезона усилили оба чувства: жаль все те положительные эмоции,
связанные с Ferrari, но намного меньше жаль спортивной составляющей того времени.
Осень вполне вписалась в общую нерадостную картину.
Именно в Монце Ferrari чуть было не показала себя с лучшей стороны. Бергер лидирует
перед Алези, проваливает остановку в боксах, потом Алези перед Бергером, то есть —
неужели даже двойная победа Ferrari в священной Монце?
А вместо этого (в такие моменты все воспринимаешь как в замедленной сьемке):
Шестая скорость выжата до полной, то есть скорость 330, я в одной секунде позади
Алези. Я вижу что в области его головы что то отлетело, я думаю о сменной пленке на
стекле шлема, эта штука приближается и летит, как снаряд, а не плёнка, черт побери, это
камера, я должен уклонится, но мои реакции тоже проходят как в замедленной сьемке, я
не успею увернуться от этой штуки, она ударяет по моей подвеске и отрывает ее начисто.
На десять сантиметров правее и эта штука как снаряд из пушки врезалась бы мне в
башку. Наши бортовые камеры — это самая верхняя часть машины, позади тебя над
шлемом (там, где во времена Лауды были воздухозаборники). Их трудно опознать как
камеры, это аллюминевые предметы весом 2 килограмма, аэродинамические зализанные,
гладкие и стройные как ракеты.
Я нервно выкарабкался из песка и сказал маршалам: «Посмотрите, где-то здесь должна
валяться камера».
Они подумали, что Бергер сначала вылетел, а потом свихнулся.
Чтобы машина Формулы 1 потеряла свою камеру — такого не случалось ни до того, ни
после. И если даже в неоднозначном случае аварии Сенны дело шло к уголовному
процессу, то какие бы имела последствия смерть гонщика в подобных обстоятельствах?
В финале сезона 1995 года и одновременно последнего из моих в общей сложности
шести лет в Ferrari, случилась гонка, которая стала «последней» во многих отношениях.
По ней можно получить хорошее представление о проистечении гоночного дня и
посвятить в пару технических процессов.
Все в последних раз: последняя гонка сезона 1995, последний Гран-при в любимой
мною Аделаиде (с 1996 года в Мельбурне, который тоже неплох), моя последняя гонка за
Ferrari, и что важнее всего, последнее выступление двенадцатицилиндрового Ferrari в
Формуле 1: его последний рокот.
Двенадцатицилиндровики с самого начала стали основой легенды Ferrari [В молодые
годы Энцо Феррари ездил на Packard V12 (7 литров, 75 л.с.) и с тех пор имел обыкновение
говорить: «Преимущества двенадцатицилиндрового мотора не с чем не сравнимы».
Четверть века спустя первая машина, носящая имя Ferrari, была оснащена V12 обьемом
только 1500 см^3, сконструированным Джоакимо Коломбо. Первые пять лет, то есть до
1950 года, у Ferrari вообще были только 12-цилиндровые моторы. Потом добавились 4-и
6-цилиндровые, а также V8, но основой основ по прежнему оставался 12-цилиндровый,
как в гоночных, так и в дорожных машинах.] и после окончания эры турбо родилось новое
поколение Ferrari V12. Семь лет этот двигатель стоял в центре жизненных интересов
Маранелло, пока не созрело решение сконструировать для сезона 1996 года V10, который
должен был стать лучшим пакетом для всей машины.
Последний выход Ferrari V12. 12 ноября 1995 года в Аделаиде. Рассмотрим эти
гоночные выходные поподробней.
V12 с 75° и 2997 см^3. По два верхних распределительных вала на ряд цилиндров. 48
клапанов. Степень сжатия 12,8:1. 730 л.с. При 16500 об/мин, раскручивает 17200 об/мин.
Важным для дорожных машин максимальным крутящим моментом в гоночной можно
пренебречь: 360 Нм при примерно 14000 об/мин. Все расчитано на максимальную
мощность и число оборотов.
Ускорение: за 4,8 секунды с нуля до двухсот.
Торможение: за 3,2 секунды с двухсот до нуля.
Мой мотор освящён самыми высокими лицами в Маранелло. Статистически это
лучший мотор своего семейства, в общей сложности по данным и допускам он лучший
поколения „95. На стенде он проработал полтора часа.
В субботу около 15:00, через час после квалификации, двигатель выкатывают в
переднюю часть боксов. На всех трех машинах, то есть и на запасной тоже, начинается
замена моторов. Каждые гоночные выходные после квалификации меняются все моторы,
независимо от того, как хорошо показали себя квалификационные двигатели. По своим
данным со стендов гоночные моторы еще лучше. Быстрейший на тренировке (в данном
случае я) получает мотор с лучшими характеристиками. Разброс по мощности лежит
между 5 и 15 л.с.
Ранним вечером, все еще в боксах, я поблагодарил всех механиков и инженеров за три
года командной работы. По этому поводу я приготовил 36 симпатичных часов с
гравировкой «Grazie Gerhard». То есть 36 человек, которые в той или иной степени
отвечали за меня в Ferrari.
Теперь над моей машиной трудятся пять человек, главного механика зовут Аттила.
Машину разбирают на части как конструктор «Lego». Снимают крылья, снимают стойки
шасси/подвеску/диффенциал, снимают мотор. Остаётся монокок, соединённый пуповиной
с внешней электроникой. Впереди откидывают нос и крылья. Разборка длится двадцать
минут.
Ставится не только новый мотор. Согласно километражу (который ни в коем случае не
должен превышать число 600) меняются всевозможные детали, снова, как в Lego, что-то
добавляется или убирается. Тяжёлые инструменты практически не используются. Если не
считать слива небольшого количества масла, все происходит как у хорошего хирурга. В
районе двух передних, горизонтальных, V-образных выпуклостей во всех тонкостях
настраиваются амортизаторы и подвеска.
Мотор присобачивают на шести до смешного тонких болтах. Всего лишь за полтора
часа сделана основная работа, новый двигатель на месте.
Примерно в это же время я знакомлюсь с новым мотором, по крайней мере,
теоретически. Я получаю все данные со стендов в Маранелло, обсуждаю их со своими
инженерами и прорабатываю настройки коробки передач (сейчас шесть скоростей, между
делом было и семь). Речь идет о таких мелочах, как та, что кривая мощности нового
мотора вполне может привести к отклонениям по сравнению с настройками, найденными
на тренировке (в субботу утром, то есть с полными баками).
В этом месте мы добрались до главного источника всех бед современных моторов
Гран-при: использование мощности, в которой в сезоне 1995 Renault однозначно
превосходил всех соперников.
В случае двенадцатицилиндрового Ferrari дело выглядит так:
Та мощность, которую гонщик считает «действительно подходящей» находится только
между 14000 и 17200 об/мин. Восемь тысяч это «ничего», десять тысяч «так себе», а 11500
это тот минимум, который я хочу иметь, когда после быстрого поворота снова нажимаю
на газ (в шпильках считают по-другому из-за проворачивания колёс, с более низкими
числами).
Не имеет смысла так настраивать коробку передач, чтобы получать после каждого
поворота 14000 об/мин, так как чем выше обороты, тем выше трение в моторе и тем более
непредсказуем баланс машины. Это означает, что я предпочитаю ехать на более высокой
передаче и теряю время на выходе из поворотов, потому что мои обороты провисают вниз
(то есть до 10000) и должен ждать, пока мотор снова их наберёт. Алези делает подругому:
он выбирает более низкую скорость, на входе и в середине поворота он
медленнее меня, зато быстрее на выходе и набирает больше скорости на прямых. Самое
смешное, что в результате выходит тоже самое (год спустя с мотором Renault дело было
уже по-другому: у него был более широкий спектр оборотов, я мог использовать свою
высокую скорость на входе и в середине поворотов и все равно по полной ускоряться на
выходе).
Вернёмся к вечеру субботы в Аделаиде: Алези и я сидим в комнате инженеров и поразному
настраиваем наши скорости, в зависимости от манеры пилотирования и оценок
моторов. Для каждого поворота имеются данные телеметрии и альтернативные расчёты
каждой отдельно взятой передачи.
День гонки. В шесть часов утра поднимаются жалюзи на задней стороне боксов. В 6:30
мою машину, официально она именуется Ferrari 412Т2 с шасси номер 163 и стартовым
номером 28, через пуповину подключают к передвижному пульту. Это электронный
выход машины, здесь можно все контролировать и программировать, отсюда идет
соединение с пунктом телеметрии в соседней комнате боксов Ferrari.
Прогревается вода в моторе, через полчаса достигнуты 60 градусов. Внешняя
бензиновая помпа нагнетает давление в систему, мотор заводится с внешнего стартера и
десять минут работает на 1500 об/мин.
Машина стоит на деревянных дисках, которые выставлены точно под размер.
Замеряется клиренс и высота всех крыльев, очаровательно старомодно — с помощью
ватерпаса. Одновременно на переднем пульте проверяют все характеристики мотора.
7:30 утра: мотор глушат. Все данные прогрева второй раз проверяют по телеметрии.
7:45 утра: мотор снова запускают, внешне устанавливают от 2500 до 4000 об/мин,
температуру масла 50 градусов. С этого момента все работают только с ушной защитой.
Десятисекундные 5000 об/мин для проверки масла больно бьют по ушам. Еще и речи не
идет о музыке двенадцатицилиндрового мотора.
Аттила залезает в машину. Третья проверка. Аттила четыре раза прогоняет все
скорости (с помощью рычагов на нижней стороне руля, это можно делать средним
пальцем). Подгазовка при переключении вниз производится электронно. Сцепление
выжимается только на старте, тем важнее кнопка на руле для перевода коробки передач в
нейтральное положение, в случае чего.
Мотор выключают. Берутся пробы масла и посылаются на анализ. Два человека снова
проверяют крылья, еще двое обрызгивают машину из баллончиков.
Теперь приходим и мы — гонщики. Обсуждается высокая температура воздуха,
меняются две установки крыльев. Машину поднимают на домкрате, устанавливаются
предварительно разогретые шины, они остаются под греющими чехлами.
Мотор снова запускают, на часах 8:45. Механик ритмично играет оборотами между
4000 и 7000 об/мин. Теперь я впервые слышу мой гоночный мотор. Мне нечего по этому
поводу сказать, в любом случае ничего плохого. Как можно описать звук?
Угражающе-болезненный низкий рев, пчелиное шипение, самоуверенный лай при
скачках оборотов. Но по сравнению с «музыкальными годами» гонок отсутствуют
нюансы оттенков, бульканье и бормотание, плевки и удары, нет осложнений, требующих
сглатывания, и высвобождающихся металлических брызжущих звуков, которые гремели
певобытным ревом.
Этот рев был тем, что так окутывало мозг, до тех пор, пока не исчезала глухая боль и
маленькие бенгальские огоньки осветляли сознание. Все это прошло.
Во всем виновата электроника, она настолько гениальна, что для каждого состояния
мотора есть идеальное управление. Благодаря этому больше не возникает
неравномерностей в сгорании смеси при сумасшедших сжатиях и оборотах, каждый
процесс проходит на грани оптимума. И высокие обороты требуют только коротких
выхлопных труб, поэтому, несмотря на отсутствие глушителей, и с этой стороны не
осталось ничего похожего на классные „кишки“ старых времён — не считая резкого рёва,
конечно.
Жан и я готовимся к уорм-ап гоночного дня, залезаем в машины. Короткое шипение,
мотор пять-шесть раз гавкает на шести тысячах. Я жду, пока установится температура
воды 70 градусов и выезжаю из боксов. В наше время у моторов сказочное поведение в
том что касается отклика на педаль газа, ты можешь стартовать при 4000 оборотов, как в
школе вождения.
Практически все пилоты заезжают после первого круга уорм-апа («Installation lap» –
[установочного круга]) обратно в боксы. Там проверяют самые примитивные вещи,
слишком банальные для телеметрии: хорошо ли сидят все болты, и нет ли течи. Затем
снова на трассу.
При еще более или менее прохладной температуре первой половины дня машина идет
особенно хорошо, звучит приятно. К концу часа снова берутся пробы масла,
анализируются и сравниваются с утренними.
Показания телеметрии так себе: у моего мотора сильный «Blow by». Эта потеря
давления — типичная болезнь, так как гоночные моторы для уменьшения трения
обходятся минимумом поршневых колец (Ferrari: 2). Для этого есть допуски, и этот мотор
находится у верхней границы. Слишком плох, чтобы быть довольным, слишком хорош,
чтобы снова менять двигатель.
Из-за увеличивающейся жары (изменение плотности воздуха = изменение прижимной
силы) антикрылья устанавливаются под большим углом. У меня странное чувство,
кажется, что именно в последней гонке может произойти что-то хорошее («Внести
смятение в ряды обоих Williams, жара делает все непредсказуемым, 80 кругов — это
много, черт его знает»), в любом случае настроение многообещающее.
Перед боксами делают прощальную фотографию: последняя поездка
двенадцатицилиндровой Ferrari.
Алези собирается делать две остановки, у него на борту около 68 кг (примерно 94
литра). Я решил останавливаться три раза, начинаю с 55 кг топлива. На старте я дам
между 13000 и 14000, как раз столько, сколько нужно для гонки.
Гонка: Жан Алези проучил Шуми. После замены переднего антикрыла езда больше не
доставляет ему удовольствия. «Машину тянет вправо», согласно Ferrari, это чепуха.
Таким образом, после тридцати кругов я второй. Последняя двенадцатициллиндровая
Ferrari! Энцо смотрит сверху.
К температуре воды в 107 градусов с десятого круга я уже привык, тем более что
изменить все равно ничего не могу.
«Если Хилл сейчас сделает какую-нибудь глупость, я могу выиграть» - думаю я.
У 4-го поворота я почувствовал толчок, как будто официант, несущий еду, опрокинул
поднос со всей посудой, в зеркалах полно дыма, заклинило поршни и клапаны правого
ряда цилиндров. Свернуть к обочине и вон из машины. Все заняло не более четырех
секунд.
Двенадцатициллиндровая Ferrari Формулы 1: так закончилась эпоха в технике и спорте
Гран-при.
Одновременно закончилась и работа: Бергера в Ferrari. Но не отношения. Они всегда
прекрасны, не считая пары пятен.
Жить быстрее
Очень хорошие гонщики, которых в целой Формуле 1 намного меньше дюжины, быстро
становятся достаточно богатыми. Потом они говорят, что, собственно, и не планировали
этого, что они хотели лишь бойко водить машину, то есть лучше, чем все остальные. А
затем они хотели узнать это наверняка, поскольку любят борьбу, возбуждение и
самоутверждение, а денежные вопросы возникали непреднамеренно.
Все это верно, но не совсем.
Не существует ни одного отличного гонщика, который с самого начала думал о
деньгах, как о главном. Одно лишь расчетливое планирование доходов не может помочь
18-летнему парню, если речь идет о том, чтобы настолько выделиться из сотен
представителей этой же дикой расы, чтобы все показали на тебя пальцем.
Чем больше шансов у тебя появилось, и чем ближе ты, тем самым, приближаешься к
Формуле 1, тем больше ты удаляешься от своего первого заработанного шиллинга. 22или
23-летние парни находятся в инвестиционной фазе своей жизни. Они должны
предоставить суммы от одного до трех миллионов долларов в год.
Эта модель была изобретена четверть века назад Ники Лаудой, правда, в то время еще
по бросовым ценам. Он отнес свой банковский кредит в команду March, проиграл все
(было больше дефектов, чем чего-то еще), какое то время подумывал о самоубийстве [“…
по дороге в Лондон из главного офиса March в Бичестере я проезжал Т-образную развилку
с солидной стеной напротив. Надо было всего лишь не отпускать педаль газа, чтобы
решить мои проблемы.” (Ники Лауда о ситуации в 1972 году, из книги “Третья жизнь”,
издательство TAU)] и удвоил кредит, пойдя ва-банк. Он выиграл в итоге, так сказать, на
последнем шиллинге кредита, поскольку, когда Лауда в дождливое воскресенье в Монако
показал себя невероятно хорошо, у телевизора был Энцо Феррари. Не было б дождя, гонка
превратилась бы в банальность, Лауда не смог бы проявить себя и, возможно, был сегодня
водителем автобуса.
Тогда это было еще исключением, а теперь стало правилом – запланировать деньги от
молодого гонщика в бюджет средней или небольшой команды. Мимо этого этапа с
промежуточным финансированием карьеры практически не пройти, поскольку большие
(выплачивающие) команды берут только гонщиков с некоторым опытом в Формуле 1.
Немногие имеют богатого папашу, большинство разыскивают спонсоров. Самое
существенное здесь – стараться сделать эту фазу покороче и при этом показать
впечатляющие выступления, чтобы стать привлекательным для большой команды. Иначе
ты не отмоешься от имиджа плательщика (Дитер Квестер нашел выражение «полено») и
останешься как приклеенный в этой лиге.
Как бы успешно я не кружил на BMW или в Формуле 3, то не получил бы шанса
попасть в Формулу 1 без денег. Arrows было нужно в сезоне 1985 года один миллион
долларов, что для 25-летнего парня из Вёргля было скорее абстрактной суммой. У меня
были ушлые друзья типа Бургхарда Хуммеля, и доставшийся от отца талант внушать в
себя доверие, и, действительно, мы нашли спонсоров, которые покрыли большую часть
суммы. В Arrows я, возможно, остался бы paying driver [российский вариант термина —
рента-драйвер], пока не потерял бы последнего спонсора, но уже в 1986 году я попал при
сопутствующей небольшой удаче (и движущей силе BMW) во вновь формировавшуюся
команду Benetton. Хотя они и там хотели денег Бергера, но, когда я уже в третьей гонке
поднялся на подиум, то услышал золотые слова: “Бергер, тебе не надо больше платить”.
Тот, кто это сказал, был не кто иной, как Лучано Бенеттон, и я мог оставить при себе
деньги моих частных спонсоров.
Потом все пошло по классическому пути: хорошая машина, храбрый гонщик, и вскоре
Энцо Феррари вновь сидел в нужный момент у телевизора, возможно, на том же стуле,
что и 13 лет назад, когда Лауда «плыл» на своей BRM по воде.
Так что у меня получилось сделать инвестиционную фазу короткой. С тех пор я в
“зеленой зоне” и рад этому. На приумножение денег в Тироле смотрят вполне
благосклонно, и я чувствую себя сильно привязанным к моей старой родине.
На первые заработанные деньги я купил самолет.
Если кто-то 300 часов в году летает на коротких европейских линиях, часто между
региональными аэродромами, расположенными вблизи гоночных трасс, то может
подсчитать, что, используя регулярные рейсы и учитывая необходимость привязки к
расписанию, время ожидания, трансферы и дополнительные ground transportations
[наземные перевозки – А.Г.], он находится в пути примерно в три раза больше. Разницу он
помножит на стоимость бизнеса в час или ценность своего личного часа жизни –
использовать можно что угодно -и мгновенно становится ясно, оправдывает ли это себя.
Для меня, как и каждого в высшей лиге гонок, это вообще не вопрос.
Я перескочил через лигу турбовинтовых машин, которые мне тогда, пожалуй, больше
соответствовали, и сразу купил бывший в употреблении Citation, о чем ни секунды не
пожалел.
сли я считаю самолет рабочим инструментом, то по-настоящему красивый дом и
очень приятная яхта – это уже скорее предметы роскоши. Я думаю, что на покупку Е яхты меня подвигли рассказы Нельсона Пике. MR 27 (“Maria Rosa Ventisette”) [с
итальянского довольно странный перевод – “день зарплаты Марии Розы”-А.Г.] имела
разумную длину 22 метра. Там можно было вполне жить, хотя хватало только капитана и
его жены, чтобы содержать ее в полном порядке, в противоположность более поздней
“Pia”. Мне пригодилось двойное назначение корабля. Между Сардинией, Корсикой и
Ибицей это было идеальное место для водных видов спорта на отдыхе, т.е., для всего, что
перемещается на воде с помощью моторов. В качестве домашнего корабля с портом
приписки Монако он являлся мобильным жилищем где угодно от Монте-Карло и до
Бандоля [курортный городок между Марселем и Тулоном –А.Г.].
Постройку дома я заказал на горе Хоэн Зальве [Hohen Salve, 1829 м, гора в Тироле,
один из самых лучших панорамных видов на Альпы — А.Г.], выше Зёлля, на высоте 1600
м, на расстоянии, пожалуй, 30 км по воздуху от Вергля. Он совсем незаметно притаился
на склоне. Смотря вперед, ты видишь Кайзергебирге [горная область в Южном Тироле,
известное туристическое место — А.Г.], из кухни ты получаешь полный обзор
тренировочных склонов школы лыжников и выбираешь взглядом самых красивых
девушек. Иметь сказочно красивый дом в горах, из гаража которого ты сразу можешь
выезжать на лыжах – это было самым прямым воплощением моего юношеского
представления о прекрасной жизни.
Наслаждение горами было, правда, совсем коротким, отъезда из Австрии больше было
не избежать.
Началось все в 1987 году с дебатов о вооруженных силах, в которых участвовала вся
Австрия: должен ли Бергер идти в армию или может остаться в Ferrari?
Одному чиновнику в Вене пришло в голову, что, несмотря на возраст 28 лет, я еще не
был в армии. Я получил нечто вроде предупреждения, явился к этому чиновнику и
объяснил, как все устроено в профессиональном гоночном спорте: я потеряю работу и
никогда не найду ее вновь, во всяком случае, в Ferrari, поскольку в моей машине давно
уже будет сидеть итальянец или француз. Ему на это оказалось наплевать, он сказал, что
зарабатывает 20.000 шиллингов в месяц и тоже должен был идти в армию, а Бергер
зарабатывает миллионы и пытается увильнуть от службы. Это было бы вдвойне
несправедливо.
В общем и целом я совсем не имел ничего против армии. Я даже думал, что меня
могли бы вымуштровать в спортивной роте, и я обрел бы, наконец, приличную форму.
Были даже намеки, что меня могли бы отпускать на гонки и тесты, но, конечно, без
гарантии. Если бы мне сообщили, что сейчас не можем, к сожалению, отпустить тебя на
тесты, потому что завтра у нас важное горное восхождение, то Энцо Феррари сказал бы,
вероятно: “Ну, в таком случае поставь на вершине крест и повисни на нем“.
Между тем дебаты переросли в публичную фазу, и мои документы попали к министру.
Его имя было Лихал, в общем и целом – нормальный мужик. Он оценил ситуацию, но
должен был поступать дипломатично и не мог так просто обойти моего заклятого другачиновника,
который так в меня вцепился.
Интересным было эмоциональное слияние с денежной темой. Некоторые люди
считали, что тот, кто зарабатывает так много денег, особенно должен идти на службу в
армию.
Дискуссии постепенно перешли в иррациональную область, так что даже простые вещи
осложнились. В обычном положении я бы положился на то, что при медицинском
освидетельствовании меня тотчас бы отправили домой. Вследствие автомобильной аварии
в 1984 году у меня была (и останется навсегда) серебряная пластина с четырьмя винтами
на первом и втором шейных позвонках. Это особо мне не мешало, но и кандидатом в
армию я тоже не был. В качестве аргумента опять не подошло.
Средства массовой информации были в напряжении, и телевидение объявило
дискуссию в передаче “Клуб 2”. Министр обороны против гонщика, эта передача была
настоящим лидером телевизионного рейтинга 1987 года. Я очень хорошо подготовился и
настроился по-боевому, но Лихал не был заинтересован в большом скандале, который,
собственно, в любом случае мог бы только навредить имиджу армии.
Итак, он заранее отвел меня в сторону и сказал по-австрийски:
“Господин Бергер, мы решим проблему, но решим ее после передачи”.
Так получилось, что дискуссия прошла на удивление миролюбиво. Лихал говорил в
манере государственного человека о дельной молодежи, о принципе равенства, я в
основном молчал, и единственный, кто дергался, был мой любимый референт.
У меня был потом разговор с министром, который давно принял решение: провести
повторное освидетельствование и признать меня негодным из-за серебряной пластинки в
шейном отделе позвоночника, каковая освободила бы так же и любого другого австрийца
от армейской службы.
“Кое-что еще, господин министр”.
“А именно, господин Бергер?”
“Я бы с таким удовольствием сделал рекламу вооруженным силам. Могу ли я получить
Draken [модель истребителя SAAB – А.Г.] для шоу гоночных машин в ратуше
Такая наглость министру понравилась, он отдал приказ разобрать боевой самолет на
аэродроме, провезти через город на тяжелом транспорте и смонтировать в зале, и вот этот
крутой самолет стоял посреди всех гоночных автомобилей.
Так Бергер не пошел в армию, зато, в конце концов, военно-воздушные силы пришли у
Бергеру.
Поскольку я в течение недель и месяцев этой дискуссии не мог быть уверенным в том,
что все пройдет успешно, то ускорил свое переселение в Монако. Оно было необходимо
также и по налоговым причинам. С тех пор я плачу относящиеся к Австрии налоги в
Австрии, остальное — в Монако. Дом в Хохзёлле я использую от случая к случаю только
как отпускное место жительства, а принадлежит он моей матери.
Я приобрел приличное, но не захватывающее дух жилье в Монако, и прямо перед ним
швартовалась моя яхта, сначала “Maria Rosa”, потом “Pia”.
Автомобильный фанат Герхард Бергер еще когда ему было чуть за двадцать,
отправился прямиком в рай и оказался в чудесной стране, полной Lamborghini, Porsche,
Jaguar и всех моделей Ferrari, которые можно перечислить
Еще в качестве механика и гонщика Кубка Alfasud я приобрел турбированный Porsche.
Теперь, при деньгах, славе и знакомствах, я набил свои гаражи самыми безумными
экзотами, хотя и менял их быстро, но в большинстве случаев имел шесть или семь машин
одновременно. Поскольку я покупал их недорого и потом продавал как “бывшие машины
Герхарда Бергера”, то финансовые затраты держались в приемлемых границах. Иногда я
мог бы даже заработать прибыль, уж точно, например, при продаже F-40, но я решился на
нее слишком поздно, когда цены опять упали.
В области нормальных автомобилей у меня была тяга к быстрым BMW и
многосторонним Renault, что касается экзотов, то Jaguar XJ220 был самым дорогим,
Lamborghini Countach – самым броским, F-40 – самым брутальным, а Berlinetta Boxer –
самым большим животным в моем стаде. Очень приятным был и джип Lamborghini, в
котором было всего понемногу.
Как обычно правильно и представляют спятившего гонщика, в основном я ездил
настолько быстро, насколько можно было. Хотя длинные перегоны встречались редко,
поскольку я уже имел самолет, но, если, например, речь шла о маршруте ВёргльМаранелло,
скорость перемещения стабилизировалась обычно на 300 км/ч.
Наиболее прочно сумасбродство поселилось в F-40. Или его надо замуровать в погребе,
или передвигаться на нем так, как он того требует. Я его не замуровал, и это едва не стало
грубейшей ошибкой.
С тех пор прошло уже восемь лет. Вторая половина дня, ноябрь в Баварии, уже темно,
сыро и холодно. Я лихо двигался по неширокой федеральной трассе на F-40. За опорные
точки я принимал фары встречных машин, поскольку ничего другого особенно и не видно
было. И вдруг на прямой между очередными двумя опорными точками дорога исчезла,
поскольку она образовывала здесь острый левый поворот. Я двигался примерно вдвое
быстрее, чем позволяла ситуация.
Тормозить шансов не было совсем, так что я повернул налево и сразу начал скользить.
Заднюю часть стало заносить, я мог поймать ее только большими движениями руля,
маятниковыми колебаниями налево и направо. Скорость практически не снизилась, а меня
все еще «разматывало», в то время как встречные огни приближались. Если б я остался на
дороге, шансы на то, на какую половину трассы придется маятниковое колебание — на
мою или на встречную — были 50/50. На это я не рискнул. Я перестал стабилизировать
колебания машины и дал ей соскочить с дороги прямо, не видя, куда я лечу.
F-40 вылетел на луг, завертелся на кукурузном поле и, наконец остановился.
Повреждения на машине были смехотворно малы, но у меня два дня была дрожь в
коленках. Представление о том, что могло произойти, прежде всего, в отношении ничего
не подозревающих едущих навстречу водителей, было гораздо более впечатляющим, чем
все, что со мной происходило в гонках. Я думаю, что в тот день стал немного взрослее.
Понял, что, во-первых, нечего ездить, как свинья, во-вторых, известному спортсмену это
тем более не к лицу. И потом, я, конечно, заметил, что даже для отличных рефлексов
гонщика улицы могут оказаться слишком узкими.
С тех пор сумасшедшие поездки прекратились. Я этого никогда не делаю, и не мог бы
сделать. Даже на мотоцикле я езжу совсем по-другому, чем раньше. В свое время касание
подножкой дороги на виражах автобана было только началом развлечения, а теперь я,
может быть, и проделаю такое разок на 180 км/ч, как будто для сентиментальных
воспоминаний, и на этом хватит.
После вылета F-40 интерес к экзотам тоже пошел на убыль. Я ведь гораздо больше
времени проводил в самолете, чем на дороге, и с правами пилота конструкция
летательных аппаратов стала важнее, чем автомобилей. Так я снова начал избавляться от
предметов роскоши, и однажды у меня не стало даже самого маленького Ferrari. Все
прочь, весенняя уборка. Только машины для нормальной езды, BMW и Renault в
Португалии и Монако, и пара мотоциклов, поскольку один из моих друзей был
владельцем Cagiva и Ducati. И, несомненно, я нуждался в 6-цилиндровой Honda, какой ее
производят для рынка США. Двигатель Goldwing на шасси, почти как у чоппера,
невероятно медлительный мотоцикл, так впечатляющ внешне и так при этом прост.
И вот, когда у меня действительно совсем не осталось машины, выходящей за рамки
BMW 540 и Renault Espace, и я ни о чем не жалел, мне бросился в глаза открытый Bentley.
Модель Azure! Наконец-то автомобиль со стилем, подходящий для мужчины в возрасте и
с семьей. 6,8 литров, турбо, почти 400 л.с., не весит и трех тонн, супер-машина. В Монако
и окрестностях с таким особо и не выделиться, там “Ройсы” передвигаются стаями. Итак,
на весну 1998 года я своевременно заказал себе Bentley Azure. Он будет покрашен в
специальный цвет: черный, который переливается в зеленый, и наоборот.
С
С
амолет Citation I был лучшей мыслимой инвестицией, которую я мог сделать. Без
него мое расписание в суетные годы гонок должно было бы выглядеть совсем подругому.
Машина идеальна для европейских масштабов. Скорость примерно 600 км/ч, три
с половиной часа дальности полета, так что можно покрыть любое расстояние в Европе
без промежуточных посадок, если только это не Хельсинки-Лиссабон.
Хотя у меня Citation I был в специальном исполнении для одного пилота, я
предпочитал летать по соображениям безопасности с двумя летчиками. Из экономии,
которой отличаюсь, желая исключить второго человека, я получил позже удостоверение
частного пилота, а затем – и профессионального.
В 1994 году я выложил побольше, продал «единичку» и купил вместо этого Citation III.
Он для европейских условий уже несколько шикарен, да и выглядит роскошно: снаружи
“гоночный зеленый”, внутри алькантара известного цвета “яичная скорлупа” от Ferrari.
Несмотря на более высокую скорость и дальность полета, я предполагал использовать
аппарат для европейских полетов, с небольшими исключениями (самым захватывающим
был полет через Дальний Восток на финал сезона, который Вы найдете в приложении к
этой книге, расказзанный Хербертом Фелькером).
Я всегда гордился моей деловитостью даже при покупке дорогих аппаратов. Мне
удалось продать Citation I через восемь лет эксплуатации (и, разумеется, скрупулезного
ухода) даже с небольшой прибылью. Когда жадность вновь стала доминировать, и я
получил хорошее предложение для «трешки», то расстался и с ней, о чем впоследствии
жалел. В сезон 1997 года я пользовался арендованными самолетами, как, например у
Шумахера, а потом снова заказал себе приличный аппарат: Lear 31. Он вновь ближе к
Citation I, хотя современнее, быстрее, лучше, несмотря на вполне разумные
эксплуатационные расходы, так сказать, BMW среди частных реактивных самолетов. Это
– небольшой намек, что я не собираюсь действительно уходить на пенсию. Конечно,
трехсот часов в год, как в лучшие гоночные годы, я не налетаю, но на половину надеюсь.
Яхту MR 27 в 1990 году сменила “Pia”. Это 36-метровый корабль, на котором уже
вполне можно передвигаться, даже с семьей и гостями. Очень мало людей могут себе
представить, что делает такой практичной или приятной жизнь в порту, стесненную
другими кораблями, да еще и для парня родом с гор. Мне это трудно объяснить, и,
возможно, наиболее полезно будет обратиться к записям Херберта Фелькера, который
посетил нас весной 1996 года в Сан-Тропе:
Тот, кто представляет себе “Pia” как довольно большой корабль, который в цветных
брошюрах называют яхтой класса “люкс”, тот почти прав. Он действительно
безукоризнен. Даже машинное отделение полно воздуха, света и убрано, как боксы
команды Williams. В нем живут два 12-цилиндровых мотора, каждый объемом 47
литров. Капитан – француз и знает семь морей, бортинженер выглядит как молодой Ив
Монтан, поэтому тоже француз. Матроса зовут Фабио, повар и няня – из Австрии, за
сервис отвечает Дженнифер, которая, таким образом, может быть родом только из
Англии, так же, как и Колин, пилот Citation III, который базируется на расположенном
вблизи аэродроме Ла Молль.
Порт Сан-Тропе вмещает несколько сотен судов. Только около двадцати самых
больших (от 30 до 45 метров) из них проводятся лоцманами во внутреннюю часть
порта, чтобы пришвартоваться непосредственно на набережной Габриэль Пери. Это
так же, как бросить якорь на деревенской площади. От заднего ограждения “Pia” до
магазина мороженого Barbarac – восемь метров, до кафе de Paris — пятьдесят метров.
Можно осилить.
Вечером Герхард всегда ходит на осмотр кораблей, надо же знать, кто твои соседи.
Мне пришло в голову: “Да тут одни земляки”, поскольку “Pia” ходила под флагом
Каймановых островов и зарегистрирована в Джорджтауне, как и добрая половина судов
на набережной.
“Как это – ощущать себя джорджтаунцем?”
Бергер: “Я никогда там не был”.
“И тебе туда не хочется?”
“Нет”.
“Почему нет?”
“Нет, и все”.
“Как ты себе представляешь Джорджтаун?”
“Не знаю”.
“Тебе, однако, надо иметь какое-то представление о своей родине”.
“Можешь ты меня оставить в покое с Джорджтауном?”
“Мммм”.
Так мы слоняемся теплыми вечерами по набережной и говорим умные вещи. Около
трех тысяч приятных людей тоже слоняются по набережной и говорят примерно такое:
“Смотри, он из Джорджтауна”.
“Мммм”.
“А где, собственно, находится Джорджтаун, папочка?”
“Оставь меня в покое”.
“Почему?”
“Потому что я так говорю”.
“Купишь еще мороженого?”
Если мы не говорим что-то умное об автоспорте или Джорджтауне, то обсуждаем,
возможно, ныряльщиков.
Каждый раз, когда мы возвращаемся с прогулки на яхте, что, кстати, очень
захватывающе, капитан по радио вызывает “plongeur”, ныряльщика.
Зачем нам ныряльщик?
Потому что (относительно) большие суда стоят так тесно (что и придает набережной
такую своеобразную атмосферу рыночной площади), что якорные цепи часто
запутываются и даже ослабляют друг друга. Так что нужна «линия земли»,
непосредственное присоединение к стене набережной, а его может устроить только
ныряльщик.
Я хочу видеть ныряльщика за работой, по крайней мере, при входе в воду. Я его
никогда не вижу, так что жалуюсь на это собственнику судна.
“Его не видит никто”, говорит Герхард.
“Почему нет?”
“Он связан по радио с руководством порта и погружается всегда там, где нужен”.
“А если он не нужен?”
“Тогда он ждет в бюро”.
“Значит, я могу видеть его при всплытии”.
“У него бюро под водой”
“У-у-у-у…”
Клевое дело – швартовка. В небольшой бухте порта корабль разворачивается кормой
и с точностью до сантиметра подается на свободное место. Прогуливающиеся по
набережной люди толпятся перед этим местом и наблюдают. А поскольку все такое подеревенски
маленькое, корабль кажется непропорционально большим, командный мостик
находится на высоте второго этажа , и перспектива более захватывающа, чем на
Queen Mary перед Саутгемптоном. Только рядом слева, на яхте Lade Jersey, никто на нас
не косится, они всегда играют в триктрак и пьют розовое вино, а старик там никогда
не снимает свой твидовый пиджак, даже в 30-градусную жару.
Постепенно я понимаю, что нравится Герхарду в этом порту. Для того, кто
воспринимает корабль как жилище, швартовка на деревенской площади – логическое
достоинство. В середине июля толпы народа станут настолько подавляющими, что
корабль и все на борту и без того покинут бухту, но до тех пор деревенский шарм
вполне ощутим. Рано утром наш чемпион совершает двухчасовую пробежку в
виноградниках, ранним вечером идет в тренажерный зал на другой конец деревни. Он
называется “Salle de Musculation” [зал для упражнений на развитие мускулатуры], что
тоже хорошо, и там, рядом с Герхардом, растягиваются и потягиваются
двухметровые атлеты, сплошь телохранители для «богатых и знаменитых“. Эта
прогулка по деревне неизбежно ведет к Cafe des Arts [кафе искусств], маленький
эспрессо…и к игрокам в биллиард, которых абсолютно не трогает чужая глазеющая
толпа.
Я имею обыкновение уходить из тренажерного зала немного раньше и ждать
Герхарда в “Sube”. “Sube”, и тут мы снова оказываемся на деревенской площади и
набережной, наверное, самый очаровательный отель Лазурного берега, во всяком случае,
там есть на втором этаже бар с очень маленьким балконом, на который люди, видимо,
не решаются выходить. Я прохожу через отель и всегда нахожу столик на балконе
свободным.
Если мы говорим о дате примерно седьмого июля, то солнце тогда заходит в 21.10, а
именно — точно напротив балкона “Sube”, над яхтой “Pia” и другими кораблями, в том
числе и над гордым голубым трехмачтовиком “Alejandra” из Панамы. Солнце зависает,
как яичница на шпинате насыщенно зеленых гор, расположенных слева от СентМаксима
[курортный городок] на другой стороне залива. Потом Герхард приходит из
зала и пьет “Эвиан”, а я – “Мартини” с влажными оливками.
Наша последняя морская экскурсия привела нас на запад, и при начинавшемся
мистрале мы бросили якорь перед домиком господина, которого зовут так же, как его
шариковые ручки, которых он уже продал несколько штук. Мне нравятся истории,
которые случайно всплывают за ланчем, как, например “…и тогда старик сказал, нам
нужно вернуть Францию на карту мира, надо что-то делать!”, и хозяйка дома несет
картину со стены второго этажа: смотрите, на этом трехмачтовике Франция завоевала
“Кубок Америки”.
- И как старик назвал трехмачтовик?
- Он назвал его “Bic”.
На обратном пути мистраль становился все сильнее, и это было чудесно – возвращаться
теперь по свинцовому морю в порт Сент-Тропе. У ныряльщика, а его я опять не видел,
было много работы в этот вечер.
Утром ветер дул с силой между 7 и 8 баллами. Перед магазином мороженого Barbarac
стоял большой черный пес с длинной шерстью, развернувшись к ветру своим самым
маленьким поперечным сечением. Так он стоял с горизонтально расположенной
шерстью, как настенная иллюстрация во время урока физики: “Собака в
аэродинамической трубе”.
Герхард после завтрака вопросительно посмотрел на меня, поскольку Дженнифер
заявила, что на борту кончилось вино. Но я уже был занят с Сарой: “Как делает бегемот?”
Настало время отъезда. Я боролся с многокилометровой пробкой по направлению к
Ницце. Герхард летел по мало используемому маршруту Ла Молль – Оксфорд, чтобы,
укрепленным умными разговорами, стать вторым на этапе в Сильверстоуне. Капитан
ожидал, когда успокоится мистраль, чтобы достичь побережья Ибицы.
Португальский тиролец
У нас была маленькая симпатичная квартирка в Кундле, недалеко от Вёргла, в паре
минут от отцовского предприятия. Мы — это были Рози, наша дочь Кристина и я. В
отцовстве я был так же быстр, как разве что в Хоккенхайме.
Когда мне позвонила Рози и сказала «Слушай, я должна тебе кое-что сказать», я был в
интернате профессионального училища. Пару ночей я не спал, а потом позвонил моей
сестре: она должна была сказать родителям. Однако она как-то подзабыла, и мои родители
заподозрили что-то, только когда увидели Рози с довольно большим животом. Должен
признаться, что то время было не очень простым, но на этом самое худшее было позади. Я
от природы люблю детей, и мы с Рози очень радовались Кристине.
Гран-при Португалии 1987 все намного усложнил.
Это была та дурацкая гонка, которую явно должен был выиграть я. На Ferrari я на
восемь секунд опережал Проста на McLaren; оставалось еще десять кругов, мои шины
были хотя и потрёпаны, но их должно было хватить. Тогда Рон Деннис сказал по радио
своему второму пилоту Штефану Йoханссону, который всегда особенно хорошо умел
путаться под ногами, что при обгоне на круг тот должен меня задержать, и ему это
отлично удалось. Прост приблизился, я ошибся, меня развернуло: победитель Прост,
второй Бергер. Вероятно, за всю свою жизнь я никогда больше так не злился по поводу
второго места.
В целях побыстрее утешиться мы с двумя приятелями из Тироля отправились на
вечеринку в Эшторил. Хозяином был Домингос Пидале, португальский мультиталант и
исполнительный директор AMG в Германии. Первое что я увидел, войдя внутрь, была
длинноногая девушка сзади. Она укладывала одежду в гардероб таким манером, как это
делают фотомодели с вешалками и тому подобным, в общем, я был обеспокоен. Позже
она села за наш столик, спереди она выглядела еще сногшибательней, и коллега
Альборето немедленно начал приятную беседу — итальянская школа. Подобного позора
мои тирольцы не смогли стерпеть: «Ты быстрее Альборето на трассе, зато он впереди с
бабами» и тому подобные вещи, которые ты хочешь слышать в тот день, когда лишился
первой победы за Ferrari.
Позже получилось так, что Ана позволила мне пригласить себя на танец. Это был один
из тех редких моментов в моей жизни, когда танцев было не избежать.
И тут это случилось.
Следующая гонка была всего неделей спустя в Хересе, с нашей точки зрения, это по
отношению к Лиссабону — за углом. Для Аны это напротив было серьёзной проблемой,
так как ей был всего 21 год и отец держал ее под замком. Без своего брата она вообще не
могла никуда выходить. Я даже не знал, что такое бывает, для тирольца это был
культурный шок. Однако с помощью ее брата в Хересе получилось встретиться, а потом
она решилась на рискованную акцию: дома она сказала, что у нее серия показов мод в
Порто, там она посадила на телефон подругу, которая в любой момент могла сообщить об
Ане что-то успокаивающее. А мы в это время полетели в Таиланд и провели перед
заокеанскими гонками пару дней вместе на Пукете.
Случайность или нет: в первый и последний раз в жизни я выиграл два Гран-при
подряд, Японию и Австралию.
С одной стороны, было похоже на то, что вот-вот должна была состояться свадьба с
Рози, а с другой – мне, в общем-то было ясно, что отношения, которые я начал в
восемнадцать лет, вряд ли продержатся всю жизнь, как бы сильно мне не нравилась Рози и
я не любил нашу дочь.
При всей силе свежей влюблённости в Ану я и не думал о том, что это окончательно.
Напротив, расстояние между португальским и тирольским во-первых, в географии, вовторых,
в характере казалось мне страховкой от женитьбы. Наши различия хотя и
приводили меня в восторг, но только в маленьких дозах. Я и не мог себе представить
такого, чтобы получить полную порцию этого.
Ана южанка того типа, каких я ребёнком видел в кино, типичных главным образом для
Сицилии: темпераментна, нерешительна, относительно мало организована, зато полна
жизни и чрезвычайно сердечна. К этому надо добавить полный набор всего, что касается
семьи, детей, ревности.
Когда я перебрался в Монако, я сначала думал только о практической стороне дела.
Затем мне постепенно стало нравиться и каким-то образом я почувствовал, что
действительно нахожусь в правильном месте. Есть обычные клише: климат, чистота,
интернациональность, но дело не в этом. Монако без туристов расслабленно и особенно,
если ты прибыл откуда-то издалека, ты благодарен этой расслабленности, твой пульс
начинает биться в ритме этой местности. Есть парочка баров, которые мне нравятся, все
время что-то происходит, ты можешь весь год ездить на мотоцикле. Да еще центральное
расположение по отношению к гоночным трассам и недалеко от Ferrari.
Монако также на полпути к Португалии, не только в километрах. Даже будучи
тирольцем, ты получаешь восприимчивость к южному.
Хотя я бы с удовольствием пожил пару лет холостяком, мы с Аной съехались. Для
гонщика, который постоянно в пути, это означает только половину совместной жизни, что
понижает серьёзность ситуации.
Мне приходилось справляться не только с разницами в менталитете между Аной и
мной, у меня было достаточно забот и с собственной противоречивостью.
С одной стороны я не просто люблю порядок, но настоящий педант чистоты, а с другой
не просто неряшлив, а даже хаотичен.
В один момент я думаю, что свобода — это доска для сёрфинга, музыка на пляже и
костёр для гриля, а больше человеку не надо. А в следующую секунду я уже подумываю,
не сменить ли мне свою супер-яхту на супер-супер-яхту.
Вечером я пораньше ухожу с вечеринки и думаю, что если я вовремя лягу в постель, то
смогу рано встать, а утро — это самое ценное время дня. Потом я действительно встаю в
семь утра, думаю «еще десять минут» и в следующий раз просыпаюсь уже в девять, злясь
потом на самого себя полдня.
В некоторых областях с дисциплиной получалось с самого начала. В мастерской я
работал до четырех часов утра над машиной, потом три часа спал и шел в школу. Я с этим
справлялся потому что мне нужны были деньги.
Когда я учился на профессионального пилота, я отправлялся в солидный отель,
«Империал» в Вене, садился и пахал, не рассказывая об этом не одному человеку. Меня
нервируют люди, которые постоянно рассказывают о том, как много они работают. В этом
смысле мне больше нравится имидж лентяя. Я люблю изображать из себя счастливчика,
которому все удаётся, при этом я всегда много трудился, был, так сказать, Шумахер и
Вилли Вебер в одном лице. И снова противоречие: с одной стороны мне кажется
классным, что, будучи спортсменом, я могу столько работать в бизнесе, а с другой
стороны я восхищаюсь Шумахером за то, что он последовательно держит в голове только
гонки.
Систематическая сторона во мне постепенно брала верх над хаотичной частью моего
мозга, но тут Ана еще раз все перевернула, потому что ее система — это бессистемность и
я решил, что из этого никогда ничего не получится. Она может проводить со мной 24 часа
в день. Ночью она спит со мной, встает со мной и завтракает и много при этом болтает.
Утром она со мной идет в бюро, днем обедает со мной, после обеда идет со мной в
фитнесс, вечером мы идем вместе гулять, смотрим телевизор и вместе ложимся спать. Я
так не могу, а за завтраком мне говорить особенно тяжело.
Но Ана очень медленно и осторожно менялась, и при этом я тоже изменился, сам того
не заметив. Ее бесконечная сердечность перевесила все, и систему и безсистемность. А
тот менталитет, о котором я думал, что из него ничего не получится, сейчас мне нравится
больше всего.
Я не видел не малейшей необходимости превращать эти гармоничные отношения в
брак. Но постепенно у меня начали заканчиваться аргументы, особенно когда наша дочь
Сара была в пути. В надежде на последнее спасение я сказал, что у гонщика нет времени
на бумажную волокиту, но если ты так хочешь выйти замуж, то можешь все организовать
сама. Я очень надеялся на то, что называл безсистемностью Аны, однако в один
прекрасный день она сказала мне: «На следующей неделе в субботу в десять часов в загсе
Монте-Карло».
Моей свидетельницей стала Кати, жена Мансура Ойе. С этой семьей я уже давно был
дружен. Мансур стоит у истоков чуда TAG-Porsche-McLaren и мультибизнесмен таких
масштабов, какие я даже не могу себе представить. Он строго разделяет личное и бизнес,
и даже когда я был в McLaren, я имел с ним дело только частным образом и при этом на
очень дружеской ноге. Мансур, Кати и дети, три девочки и мальчик, без всяких заскоков,
просто хорошие ребята. Свидетельницей Аны была ее монегасская подруга, и на этом все
были в сборе. В Renault Espace мы отправились в загс Монте-Карло, фотографов, конечно,
обмануть не удалось и нас быстро обслужили. Вице-бургомистр произнёс приятную речь,
из которой я конечно ничего не понял и, как последний идиот-холостяк, я сказал «Оui»
помотав при этом головой, но мне это не помогло. В Espace мы отправились в «Шевр
д“Ор» в Эзе, там на веранде для нас была приготовлена маленькая ниша, и провели два
приятных часа. Мансур захватил с собой матросские костюмы, так что мы ненадолго
поднялись на его корабль, потом на нашу «Пиа», я переоделся в джинсы и был женат.
Лучшей свадьбы я не мог бы пожелать.
Таким образом, у меня теперь португальская жена и три дочери с тремя разными
языками.
Кристина живет в Иннсбруке, скоро ей исполнится 18 и она собирается стать детским
врачем, а может и фотомоделью. Она очень на меня похожа. Если я спрашиваю:
«Кристина, как насчет парней?» она отвечает «Папа, парни меня абсолютно не
волнуют»»»«». Я выглядываю в окно, а там стоят трое с мопедом и ждут. Или я говорю:
«Кристина, как дела в школе?», она отвечает «Отлично» и я ухожу в уверенности, что она
лучшая или вторая в классе, пока не вижу аттестат, где в последний момент что-то пошло
не так. Совсем как молодой Бергер, и с ней безумно весело.
Сара, 1995 года рождения, внешне полная противоположность Кристине, с кучерявыми
тёмными волосами и тёмными глазами-кнопками. У нее безумный темперамент и
сказочный напор. Имея четыре языка на выбор (португальский, немецкий, английский и
тирольский) она больше всего любит португальский. Хотя Ана между делом неплохо
говорит по-немецки, она, к счастью, наполнила подсознание малышки чудесной мелодией
своего родного языка. Это теплый, ласкающий язык, а португальские детские песенки как
сады из сказки, с игривыми живыми изгородями, весёлыми деревьями и фонтанами
гласных, которые взлетают удивительно высоко.
По сравнению с этой сладкой сказкой, тирольский звучит как финал истории о Максе и
Морице, где обоих проворачивают через мясорубку и виде зёрен швыряют в кадку.
Rickeracke! Rickeracke! Geht die Muhle mit Geknacke. По крайней мере, так оно, должно
быть, звучит для Сары, если после мягкого пения матери она слышит тирольский.
Английский же лучше всего подходит для кашля.
Хайди, 1997 года рождения, в свою очередь совсем другого типа, скорее в сторону
блондинки. Она намного спокойней Сары, чем интересно она нас удивит?
Равнозначные языки в семье английский, португальский и немецкий. При том, что от
португальского я немного держусь в стороне.
Спорт
Во мне есть некоторые определенные таланты и предпочтения. А вот некоторых
однозначно нет, и впоследствии мне невероятно тяжело их вырабатывать в случае
необходимости.
Если начать со спорта, то мне по душе, например, такие подвижные его виды, как
горные лыжи, хоккей на льду, езда на мотоцикле, водный скутер — собственно говоря,
все, что имеет внешний фактор ускорения, пусть это даже всего лишь гладкость льда.
Напротив, мне исключительно тяжело даются атлетические упражнения. Это мне на
самом деле не свойственно.
Но без базы, основанной на значительном самоистязании, в гонках ты сегодня не
выиграешь. Нужны как выдающиеся общие физические кондиции, так и специальная
подготовка отдельных групп мышц в соответствии с требованиями большого спорта. Для
этого недостаточно какого-нибудь там оздоровительного массового спорта, а ты должен
себя должным образом истязать, один или два часа в день.
Здесь может не хватить и программ наших постоянных физиотерапевтов, а, кроме
того, им немного недостает авторитета.
Если Йо Леберер говорил: «Пошли бегать», то он мог иногда услышать в ответ: «Идика
ты побегай один и расскажи мне, как все пройдет».
За годы моего первого срока в Ferrari безжалостно открылись мои недостатки в
физических кондициях и силе, и я боролся против этого как мог. Позднее в McLaren я
подтянулся в этом отношении, ведомый примером Сенны, но его способности преодолеть
самого себя не достиг бы никогда, бесполезно.
Итак, у меня родилась гениальная идея, заполучить самого лучшего тренера мира. Я
проконсультировался и вышел на англичанина Фрэнка Дика.
Фрэнк был главным тренером британских атлетов на четырех Олимпийских Играх, он
был персональным тренером Бориса Беккера и Катарины Витт, он сделал Дэли Томпсона
сносным десятиборцем, написал семь книг о мотивации и достижениях, а королева
наградила его орденом Британской империи.
Короче, он был подходящим человеком для Герхарда Бергера.
Я начал «фрахтовать» Фрэнка Дика в 1991 году. Он проводил со мной 2 недели зимой,
и потом несколько 3-или 4-дневных периодов, распределенных по ходу сезона, все равно
где, даже в Австралии.
Он и сам мастер мотивации, но больше всего меня мотивировало жалование, которое я
был должен ему платить. Моя деловитость требовала, чтобы от бюджетной строки затрат
«Фрэнк Дик» получить соответствующую отдачу, и я истязал себя, как никогда прежде, в
тренажерных залах и на групповых тренировках. Дик, будучи почти на двадцать лет
старше, делал все вместе со мной, и, слава богу, годился для любой глупости. Он один из
немногих партнеров для того, что я называю “limit jokes” [“шутки на пределе”], то есть
без телесных повреждений.
Фрэнк не имел понятия о езде на лыжах, никогда на них и не стоял. Я напросился
преподать ему искусство нашего народного вида спорта.
Я уже говорил, что Фрэнк в основе своей открыт для всего нового.
От какого-то курса тренировок у меня дома остались вещи немецкой национальной
лыжной команды. Я одел Фрэнка наиболее обтекаемым образом, нарядил его в японские
дизайнерские шмотки, с любовью подобрал несколько деталей шокирующих оттенков.
Когда Фрэнк Дик взял в руки первые в своей жизни лыжи, он выглядел так, как у нас в
Хохзёлле представляют себе канадского чемпиона по скоростному спуску. Мы поднялись
на среднюю станцию Хоэн Зальве и пристегнули лыжи.
Тот факт, что он сразу же рухнул с кресельного подъемника, поскольку и этот аппарат
был для него в новинку, не смог отнять у нас мужества. Подъемник остановили, Фрэнка
извлекли из снега и заново разместили в кресле. То, что он обеими руками цеплялся за
опору, было единственным проявлением некоторой взволнованности от нашего горного
мира, поскольку Фрэнк настоящий боец. Вверху он был извлечен из кресла и поставлен по
направлению движения.
Я показал ему “черный” [самый сложный] спуск, сказал, что теперь настало его время
страданий, сравнимое с моей утренней тренировкой под его руководством, и уехал
вперед.
Фрэнк Дик вернулся через несколько часов, потеряв где-то лыжи, но вернулся.
Такие люди с настоящим спортивным духом окрыляют мою фантазию. Фрэнк, конечно,
тоже не ленился, и мы постоянно изыскивали разные испытания друг для друга.
Однажды мы выходили из тренажерного зала в Монако, чтобы на мотоцикле доехать
до “Pia”, стоящей в порту. Там уже был готов транспорт, который должен был отвезти
Фрэнка в аэропорт. Я выключил зажигание на своем Cagiva и сказал, что мотор иногда
плохо запускается. Фрэнк, мол, должен меня подтолкнуть, а именно, методом короткого
интенсивного спринта. В первый раз не получилось, так же, как и потом. Мы попробовали
еще, и еще, Фрэнк, надо бы еще немного быстрее, в конце концов, он дотолкал меня до
порта. Там я объяснил ему историю с зажиганием. Он был крайне впечатлен акцией, well
done [молодец!].
А что касается моих физических кондиций и мышечной силы, я полагаю, что за
последние годы достиг хорошего среднего уровня гонщика Гран-при. Произошло это, в
конце концов, только с помощью целой системы, без которой в этой области ничего не
добиться. Доктор Петер Баумгартль, специалист спортивной медицины из Сент-Йоханна в
Тироле, убедил меня в том, что мне со времен Дунгля и Лехнера и так проповедовали все
знатоки, делать акцент на продолжительной равномерной тренировке на выносливость
вместо пиковых нагрузок. Тем самым сейчас моя тренировка на выносливость целиком
проходит при пульсе не выше 140.
Сегодня каждый гонщик экстра-класса имеет собственного физиотерапевта, возможно,
делит его с коллегой по команде. Для моих требований описание этой работы звучит так:
сопровождающий на всех тестах и гонках, обеспечивающий хорошее самочувствие во
всех климатических зонах и условиях проживания в отелях, повар по здоровому питанию,
массажист, партнер по занятиям фитнесом, в случае необходимости – медработник, всегда
готов для небольших вспомогательных обязанностей.
Эта работа, воспринимаемая сейчас как нечто само собою разумеющееся, восходит к
случаю, когда Ники Лауда в 1975 году перевернулся на тракторе в своем саду в
Зальбурге. Травмированного Ники познакомили с Вилли Дунглем, который ему
последовательно помогал, когда того что-нибудь донимало. При своем возвращении в
1982 году Лауда уже придавал большое значение регулярному уходу. Бережливо, как
было ему свойственно, Ники делил Вилли сначала с Простом, потом с Пике, а затем, с
1985 года, и со мной. Когда Лауда ушел, Дунгл остался и постепенно привел своих
последователей. Между делом это люди в середине третьего десятка, все специалисты,
чуткие, компетентные и со здоровым талантом к тому, чтоб в нужный момент и отругать
подопечных. Хайнц Лехнер стал моим консультантом в первый период пребывания в
Ferrari, Йозеф Леберер опекал меня и Сенну в McLaren. Вновь в Ferrari я вернулся с
Лехнером. В Benetton ответственным за меня и Алези был Харри Хавелка.
С течением времени болячки усилились. Сказалось хищническое издевательство над
телом, которое имело место в ранние годы. У меня же никогда не было времени поболеть
и что-то полноценно залечить. Пару таблеток антибиотиков – и вперед. Насколько сильно
стресс отложился на психосоматике, мне тяжело оценить. Думаю, в этом что-то есть.
Я довольно часто грипповал и настроен теперь на близкие к натуральным методы, что
полностью отвечает стилю Лехнера и Хавелки. Некоторые проблемы в гоночном
автомобиле решаются, к радости, сами по себе. Если, например, ты сел в машину с легкой
ангиной, то после гонки от нее не остается и следа – предполагаю, все выжигается
адреналином. Влияние адреналина я ощущаю и по росту бороды: одна гонка по выросшей
щетине соответствует целому дню.
Benetton
1996,1997
Ты приходишь в новую команду, как в новый офис, пожимаешь руки, оглядываешься,
просишь все показать и получаешь первое ощущение: значит, вот как пахнет в Benetton.
Ясно, что они хороши по-крупному, иначе не стали бы последовательно дважды
чемпионами мира. Но не так хороши они, например, в области коврового покрытия. Пол в
моторхоуме основательно взъерошен, все пространство пропахло сигаретами, а на
массажный стол все ставят свои кофейные чашки.
Я замечаю, какими важными с течением времени стали для меня мелочи. Каким
избалованным становишься, когда за плечами несколько лет в Ferrari и McLaren. Красный
бархатный чехол на массажном столе хотя и не делает тебя ни на одну десятую долю
секунды быстрее, но он согревает, когда ты лежишь на нем лицом вниз. Я считаю, что
очень хорошо, когда команда и в своей внутренней жизни опирается на стандарты
Формулы 1. (У Ferrari, ко всему прочему, добавлялась техническая культура Джона
Барнарда, его любовь к эстетике в деталях. Другое дело, что он больше хотел преуспевать
в прокладке электрических жгутов, доставлявшей наслаждение, чем в аэродинамической
концепции).
Но прежде чем дело дошло до первого массажа в моторхоуме Benetton, я вылетел на
чемпионской машине. Ее просто бросило в сторону, и все, так быстро, что я не смог
среагировать. Это было на первом тесте в Эшториле, и авария была такой
разрушительной, что наступили три дня перерыва, поскольку машину пришлось
отправлять в Англию.
Все смеялись и хлопали меня по плечу: эй, твоя первая авария на Benetton, как будто
это было хорошее предзнаменование. Когда отремонтированный автомобиль вернулся
обратно, шел дождь, мы подождали, но потом решили выехать в дождь и просто немного
освоится с машиной.
На третьем круге я улетел задней частью в отбойник. Опять металлолом.
Смех после первой аварии теперь превратился в жидкие ухмылки. Мой коллега Алези
хотя и вылетал так же часто, но при вылетах всегда попадал на свободные участки, так что
ничего в машине не ломал.
Следующие тесты были в Барселоне. Я подошел к делу очень спокойно и
аналитически. Как и в первый день в Эшториле, у меня не было плохих ощущений от
машины. Просто не хватало целой секунды, и надо было ближе подойти к границе.
Следующий вылет.
Это было уже, конечно, совсем неловко. На лицах механиков и инженеров я мог
прочитать некую тоску по Шумахеру.
Обмен мнениями с моим новым шефом был тоже не очень плодотворным. Флавио
Бриаторе порхал над всеми с грандиозным легкомыслием. Хотя он и говорил что-то про
технику, но во время речи возникало подозрение, что он не в состоянии отличить рулевое
колесо от колеса машины. В крови его абсолютно ничего нет от гонок, он живет только
для сбыта товара, в первую очередь — самого себя.
Флавио Бриаторе был назначенным семейством Бенеттон руководителем всего бизнеса,
что разделился на английскую сторону (техника) и итальянскую (маркетинг). Техники
были лучшими в Формуле 1, правда, изможденные двумя огромными выигранными
битвами чемпионатов мира 1994 и 1995 гг. Кроме того, раньше все крутилось только
вокруг Шумахера, все были как будто зафиксированы на одном автомобиле. Алези,
который со своим контрактом опережал меня, обеспечил себе в лице Пэта Симмондса
лучшего гоночного инженера. В общем и целом, техническая сторона команды в новом
сезоне страдала от синдрома истощения, опоздала набрать темп и имела слишком
маленькие производственные мощности.
Самым основательным конструктивным элементом был мотор Renault на вершине
своей технической зрелости. Производительность французов была современной
реинкарнацией превосходства Honda в прошлом поколении. Они не были одержимы
только мощностью и числом оборотов, а обладали очень тонким чувством drivebility
[управляемости или эластичности двигателя] в самом широком смысле. У них было
также сколько угодно спортивного духа, выходящего далеко за пределы техники и
статистики успехов.
Во всяком случае, мотор не был проблемой. Я сказал господину главному механику
примерно так: “вот я трижды вылетел, это я беру на свою ответственность, но сейчас вам
должно быть ясно – проблема в машине, и не могли бы вы любезно запустить свой
компьютер еще раз?”
Тайна действительно открылась. Автомобиль, будучи на полной скорости на
неровностях трассы, переходил in stall [резко терял скорость], как самолет, на который
вдруг прекращают действовать аэродинамические силы. Если эта неровность была на
быстром повороте, то машина могла потерять управление из-за избыточной
поворачиваемости [“snap oversteeer”]. Это свойство Benetton, несомненно, не было
новостью. Джонни Херберт в 1995 году из-за этого пару раз вылетал с трассы и просто не
осмеливался больше подходить к границе возможностей. А Михаэль Шумахер имел
нечто вроде сверхчувственного рефлекса для этой ситуации, он потом так и объяснял. На
неровностях он заранее автоматически делал коррекцию рулем и уже записал в себя
необходимую последовательность действий.
Именно тогда у меня пропали остатки предвзятого отношения к Михаэлю Шумахеру.
Тот, кто даже на границе возможностей так надежно держит эту машину под контролем,
должен быть гонщиком абсолютного экстра-класса.
Было ясно, что мы должны были избавиться от такого поведения машины, и в этом
отношении три моих вылета имели и позитивную сторону, поскольку “объединенные
силы” Benetton пришли в себя. Решение проблемы лежало, как часто бывает, в области
днища машины. Чем выше скорость, тем сильнее на днище эффект вакуумного присоса.
Со времен запрета “автомобиля-крыла” и регламентации конструкции днища эти эффекты
действовали на очень малой поверхности. Они были так чувствительны, что “раскусить”
их даже в аэродинамической трубе можно было лишь частично. Малейшие перемещения
центра приложения усилий при менявшемся клиренсе вызывали драматические
последствия.
Средства массовой информации сразу и как следует ухватились за эту историю: Бергер
садится в чемпионскую машину Шумахера и не может закончить ни одного круга. Да и
Шумахер сам подлил масла в огонь: он, мол, проехал теперь на Ferrari и удивлен, что этот
роскошный автомобиль не выигрывал больше гонок в 1995 году.
Но тогда мы пребывали еще в расслаблении, а Бриаторе мог спокойно пожинать плоды
двух чемпионских титулов.
Первые четыре гонки рассеяли все наши иллюзии: разочарование в квалификациях
(оба), поломки в гонках (я), неиспользованные шансы (Алези). Команда Benetton
неожиданно стала выглядеть довольно плохо. Не только Williams уезжал от нас, но и
Шумахер в Ferrari производил более свежее впечатление. Бриаторе кипел, уже заранее
бушевал в работе с техниками в Англии и собрал в Имоле совещание, на котором он
пожелал и присутствия гонщиков.
Мой офис забыл сообщить мне про встречу. Я по обыкновению был погружен в
расслабляющий послеобеденный сон, когда к отелю подъехал шофер, которому было
поручено доставить меня на совещание. Я подумал, что разговор пойдет о какой-то новой
проблеме, и еще подпрыгивал под душем, как по телефону уже позвонил Флавио, я что,
не желаю приходить? Это было его самое важное совещание за несколько месяцев, но я
ничего не знал об этом и ответил: Флавио, я сейчас голый и думаю, что если в таком виде
появлюсь в паддоке, это не будет хорошо выглядеть, поэтому я сначала оденусь и потом
приду. В трубке повисла тишина. Когда я пришел в моторхоум, он сидел там с поджатыми
губами. Я сказал: “Ой, Флавио, ты сегодня совсем плохо выглядишь”.
В следующий момент он вспыхнул так, как мне еще не приходилось видеть от
руководителей команд. Он, мол, не даст разрушить нам команду, у него 300 сотрудников,
они потеряют работу, у них у всех дома дети. А мы слишком глупы, чтобы водить
автомобили, это уже в Ferrari было видно, поскольку в Аргентине мы сами столкнулись,
то было неверно, и вообще, он слышал, что мы говорили в боксах, this shitbox is impossible
to drive [этой дерьмовой тачкой невозможно управлять], и тот, кто еще раз скажет про
машину shitbox, тому он вообще не разрешит больше в нее сесть. А в будущем он и без
того подумает, кому он разрешит гоняться, а кому – нет. После этого мой сицилианофранцузский
коллега взрывается и говорит, по мне, так я уже сейчас могу идти домой,
ложиться в шезлонг, и все – только скажи, ну, что? Затем Флавио немного поджимает
хвост, и в такой конструктивной манере дальше обсуждаются технические и водительские
перспективы команды Benetton в мае 1996 года.
Между прочим, я меньше всего имел касательство к этому делу, потому что в четырех
гонках четырежды что-нибудь происходило с техникой, либо с трансмиссией, либо с
подвеской. Мне только не надо было терять нервы и не дать себя спровоцировать или
увлечься бессмыслицей Флавио.
Тремя днями позже – гонка в Имоле, Алези попадает в аварию на первом круге. Я
ухмыляюсь под шлемом: “Ах ты, бедолага”. Но он продолжает ехать с погнутой
подвеской, как будто боится заехать в боксы, сражается, как безумный, до пит-стопа и
становится в конце шестым. Я пришел третьим вслед за Хиллом и Шумахером.
С этого момента дела у Алези идут в гору, вскоре он снова становится любимцем
Бриаторе, у меня же период лишений становится все длиннее.
С машиной я между тем вполне освоился. За исключением одного разворота в Канаде,
ошибок не случалось. Большинство неприятностей было по-прежнему домашнего
происхождения, от халтуры при затяжке гаек колес до блокировки системы тормозов, не
желавшей разблокироваться при старте. А люди у телевизоров били себя по коленям и
говорили: вот стоят два дурака с затянутым стояночным тормозом.
Что меня действительно раздражало, была цепь поражений в квалификациях от Алези.
Я ужасно переживал, хотя объяснение лежало на поверхности. В характере нашего
автомобиля избыточная поворачиваемость при входе в поворот (turn-in oversteer) была
заложена, так сказать, аэродинамически. Это старая история. Конечно, от самых
высокооплачиваемых гонщиков мира можно требовать, чтобы они могли справляться с
любыми возможными повадками автомобиля. Это, однако, ничего не меняет в том, что в
экстремальных условиях квалификационного круга те или иные гонщики лучше или хуже
справляются со специфическими особенностями машины. Чем ближе друг к другу тип
гонщика и машина, тем больше гонщик может пользоваться своими ультимативными
рефлексами, поскольку все это является продолжением его сути. В моем случае это –
нейтральная или недостаточная поворачиваемость, у Алези – избыточная, какую и имел
Benetton образца 1996 года.
Снаружи это все выглядело не так красиво, и газеты в отношении меня начинали терять
терпение. Мне никогда не было безразлично, что пишут газеты, поскольку я считаю
имидж и, тем самым, рыночную ценность гонщика существенной частью всего образа. В
общем, не могу пожаловаться, со мной почти всегда обходились справедливо, собственно,
даже отлично, если я правильно припоминаю.
С другой стороны, я более чувствителен, чем нужно бы для человека такой профессии.
Если я чувствую себя задетым и оскорбленным, то не могу просто так оставить ситуацию.
Например, в газете всплыл вопрос о том, не слишком ли много денег я до сих пор
зарабатывал?
Что я должен думать по этому поводу?
Если бы я в период до сегодняшнего дня меньше требовал и меньше получал, то Benetton
был бы теперь, несмотря на это, все равно медленнее, чем Williams. А я все так же пять
раз бы сошел. Просто тогда бы у меня не было денег, что было бы в два раза глупее. И
оправдываться перед людьми, которые мне завидуют, все равно не по мне. Пусть думают,
что хотят. А вот если ты ничего не зарабатываешь, придут те же самые люди и скажут, он
слишком глуп, чтоб зарабатывать деньги.
Должен, правда, сказать по этому поводу, что в целом я по-прежнему получал от газет
“попутный ветер”, и тем более от болельщиков. Они были непоколебимы на протяжении
всей моей карьеры.
Эмоциональный критический разбор с самим собой привел к свежему всплеску
энергии. Я изначально не искал простых путей, не уклонился ни от самого лучшего
гонщика (Сенна), ни самой плохой команды (Ferrari образца 1993 года). Так что
преодолею и ситуацию в Benetton. Плюс ко всему кое-что стало продвигаться и в
технической области. Затраты на тесты команды Benetton были сенсационны. Они
проводились более профессионально и целенаправленно, чем я видел в McLaren или
Ferrari, и я со всей энергией окунулся в процесс.
Эй, Бергер жив: я стал вторым в Сильверстоуне, за Вильневом. Несмотря на
перегревавшиеся тормоза, был на первом стартовом ряду в Хоккенхайме, лидировал с
самого начала, прекрасно сражался с Дэймоном Хиллом. Он почти догнал меня, но я не
дал бы ему шанса на обгон, если бы за три круга до финиша не сгорел мотор.
Это первая поломка двигателя за 50 гонок, сказали мне позже люди из Renault, и надо
же, именно в МОЕЙ гонке.
Как бы то ни было, июльский промежуточный рывок снова расставил вещи по своим
местам, и те, которые хотели сориентироваться, сориентировались.
Остаток сезона был безрадостным. Коробка передач, дифференциал и подрез от Дэвида
Култхарда. На финале в Сузуке я был быстрейшим, но столкнулся с Дэймоном Хиллом,
который просто меня не увидел (звучит правдоподобно, поскольку ему надо было доехать
до финиша для получения титула).
Все закончилось таким годовым балансом, который было лучше поскорее забыть. В
интервью какой-то газете Бриаторе сказал, что, если бы сохранил у себя Шумахера, они
стали бы в третий раз чемпионами. Добрый Флавио.
Как по волшебству, сразу после окончания сезона 1996 года все стало двигаться в
правильном направлении. На тестах, еще со старой машиной, мы с помощью
электронного дифференциала устранили так мешавшую мне избыточную
поворачиваемость [электронное управление быстродействующей гидравлической
системой обеспечивает многократно меняющуюся степень блокировки даже в пределах
одного поворота. Комплексная система может работать в широком диапазоне
динамики]
Усилитель рулевого управления был следующим большим шагом. Между делом наши
ведущие специалисты Росс Браун и Рори Берн распрощались с нами в пользу Ferrari, но я
не видел в этом большой катастрофы. Я скорее думал об обновлении технической
стороны Benetton пришедшими Пэтом Симмондсом и Ником Уортом.
При разработке новой машины мне удалось, наконец, настоять на понимании того, что
высокого Бергера нельзя засунуть в кокпит в той же позиции, что и маленького Алези.
Один конструктор затратил две недели времени, чтобы найти оптимальное взаимное
расположение сиденья, педалей, руля и воздухозаборника. И впервые мы получили такое
прохождение потока через воздухозаборник, которое и было необходимо для 10цилиндрового
двигателя Renault. А у меня не стало ни ссадин на локтях, ни
окровавленных пальцев.
У нас был прогресс в аэродинамике, в расположении центра тяжести, в трансмиссии.
Renault начал наступление в области повышения рабочих температур, чтобы уменьшить
поверхность поперечного сечения радиаторов и повысить максимальную скорость. На
различных тестах в зимний период мы выглядели все лучше, и в один прекрасный момент
возник слух, что мы являемся фаворитами нового сезона. Бывают слухи и похуже, но тем
не менее, я чувствовал себя не очень хорошо.
Стартовая решетка в Мельбурне сразу дала понять, что год будет трудным. Впереди
нас стояли не только оба Williams, но оба Ferrari, и оба McLaren. Гонка прошла хорошо,
только Алези не удалось уговорить заехать в боксы на дозаправку, как его ни завлекали.
Он остановился на трассе, я пришел четвертым.
Оглядываясь назад, я осознал, как в марте 1997 года моя жизнь приняла другой оборот.
Течение времени для гонщиков зависит от географии их спортивного календаря. Так
что, когда события спрессовались, произошло это между Австралией и Бразилией
Тесты в Сильверстоуне. Звонок о том, что моему отцу вынесен приговор. Это было как
удар молнии. В последней главе книги объясняются обстоятельства, и то, почему они
имели для меня такое значение.
На свет появилась моя дочь Хайди. У меня было ровно два часа, чтобы повидать ее и
Анну в лиссабонской больнице. Затем я улетал дальше в Сан-Паулу. Третий в
квалификации, самый быстрый круг в гонке, но пока я обошел Шумахера, Вильнев был
уже недостижим. Бриаторе говорит, что я выгляжу, как будущий чемпион мира, но он
слишком опоздал со своими речами.
Я возвращаюсь в отель в Рио с желанием найти покоя и сил, но приходится много
висеть на телефоне: то отец, то адвокаты.
Гран-при Аргентины. Алези и я дружно стоим в шестом стартовом ряду. Benetton не
хватает сцепления с трассой, ни аэродинамическими, ни механическими средствами.
После стартового хаоса я – семнадцатый, упорно стараюсь прорваться вперед, что крайне
утомительно. На трассе нет условий для настоящих обгонов. На финише я – шестой,
закончив одну из лучших гонок своей жизни. Я полностью истощен. Люди, которых я об
этом и не спрашивал, говорят, что выгляжу я плохо. Да и чувствую я себя плачевно.
Назад в Европу. Сразу – тесты в Барселоне. У меня болит горло и грипп, но я не хочу
говорить, что болен. Я продолжаю ехать, пока практически не умираю. Потом лечу в
Португалию, чтобы немного поболеть. Ангина, бронхит, лихорадка, все похоже на грипп.
Лучше мне не становится, и в конце концов я лечу в Сент-Йоханн в Тироль, где доктор
Петер Баумгартль руководит больницей и спортивно-медицинским центром.
За год до этого Баумгартль вылечил меня от токсического воспаления легких. С тех пор
я полагаюсь на его мнение, как в медицинских, так и в тренировочных вопросах. Конечно,
меня обеспокоила природа отравляющего вещества в том воспалении легких. Не было ли
это профессиональным заболеванием людей, которые полжизни проводят в
непосредственной близости от гоночных машин и при этом вдыхают бог знает что?
Теперь я снова был близок к воспалению легких и получал антибиотики. Баумгартль
послал меня и к дантисту. Вскоре был готов диагноз: сломанный верхний коренной зуб и
был очагом воспаления.
Этому имелось объяснение. Я все время носил очень тесные шлемы и буквально
запихивал себя внутрь. Так ты вскоре уже автоматически привыкаешь сжимать челюсти.
А еще и в молодые годы у меня был особо жестокий вид прикуса. Возможно, что при этом
я разбил тот или другой коренной зуб, и, возможно, однажды отдельные частицы стали
перемещаться в десне.
Как бы то ни было, моя гайморова полость окончательно стала театром военных
действий.
Я никого не хочу повергать в скуку, рассказывая о том, какие изысканные медицинские
и хирургические методы существуют для того, чтобы лечить такой синдром не только
неправильно, но и абсолютно непродуктивно. Уж совсем не говоря о потрясающих
болевых ощущениях, которые при этом возникают. Поддерживающие мероприятия
ударяли по желудку и кровообращению, так что потом тебе нужны были капельницы и
уколы вольтарена [антивоспалительное лекарство с массой побочных эффектов].
Герхард Бергер отмечает свой двухсотый Гран-при в Имоле. Машина никуда не
годится ни спереди, ни сзади. Разворот на четвертом круге.
Следующий дантист сказал: “Какой дурак установил Вам имплантат вместе с
гранулятом?”, разрезал верхнюю челюсть и опять все прочистил.
Антибиотики и три капельницы в день. На Гран-при в Барселоне я ехал как бешеная
таблетка снотворного. Если можно себе такое представить. При этом у меня после
тренировки было странное чувство, что я мог бы выиграть. Но потом оказалось, что среди
шин Goodyear были некоторые, пузырившиеся прямо на глазах. Больше всего от них
досталось мне и Френтцену.
Следующий дантист, новый специалист по придаточным полостям. Все отекло и
загноилось, стенку нужно ломать долотом. Операция была под общим наркозом,
несколько дней в госпитале, наряду с этим еще обследования. Найден новый очаг, еще
один зуб надо удалять, но нельзя, пока все открыто.
Нехватка воздуха для описания этого процесса находилась в странном контрасте со
спокойствием моих мыслей.
У меня было чувство, что все, хватит.
Не из-за измученной челюсти. Одно громоздилось на другое.
Я еще никогда не чувствовал тоску по моей семье так остро, со всей
сентиментальностью, которая внезапно тебя охватывает, когда ты лежишь в больнице с
трубкой в носу. “Четыре моих девчонки, что будет с вами, если со мной что-то случится в
следующей гонке?”
Унизительная ситуация с моим отцом – как я хотел быть с ним!
Бессловесность в разговорах с Флавио Бриаторе, который в каждом своем действии
показывал не красивые стороны нашего спорта, а почему-то только холод и
бессовестность, которые, правда, тоже присутствуют в этом бизнесе. Меня не очень
прельщало выступать на гонках за его команду. Наверное, мне бы надо было заранее это
узнать, но в первый момент меня как раз привлекла противоположность – по-итальянски
искрящаяся сторона его прохиндейства.
Теперь я был твердо уверен, что с окончанием сезона хочу закончить с этим. Я даже
поговорил с Аной об этом. Моя умная португальская жена, которая знала меня уже очень
хорошо, сказала:
You will see, zito.
Португало-испанская ласкательная форма выражений Анны обладала особенно мягким
теплом. Gerhardzito означало “маленький Герхард”, а zito была самая мягкая часть этого.
Перед канадским Гран-при у меня было интервью прессе в Нью-Йорке, на котором я
упомянул о необходимости еще одного визита к врачу. Меня интересовало, что скажет
американский специалист про мои пазухи. Мало чего нового: надо удалять два зуба,
временный прием антибиотиков правилен.
Звонок Бриаторе. Врач говорит, что ты не можешь выступать на Гран-при.
Это была, конечно, чепуха, не говоря уж о довольно редком истолковании врачебной
тайны. В эту же ночь в газете “Курьер” уже было написано, что на моем месте в Монреале
будет Александр Вурц. Все пахло тем, что Флавио Бриаторе имел большие финансовые
интересы во временном приеме на работу Вурца.
Я чувствовал себя слишком плачевно, чтобы инсценировать какое-то серьезное
сопротивление. Вернулся в больницу, чтобы быть готовым к Маньи-Куру, и, услышав от
Флавио, чтобы я только не спешил с решением, лег снова под нож.
В период между Маньи-Куром и Сильверстоуном разбился мой отец, я расскажу об
этом в последней статье.
Когда после трех пропущенных гонок я вернулся на сцену, был этап в Хоккенхайме.
Теперь я абсолютно точно знал, что хочу уйти в конце сезона. Еще точнее я знал, что я не
буду больше ездить у Бриаторе, так что на пресс-конференции я сказал, что продление
договора в Benetton на моей повестке дня не стоит.
Потом началась квалификация в Хоккенхайме, и это уже совсем другая история.
Коллеги
Первым человеком, с которым я познакомился, был Лауда. Он был уже очень стар, на
целых десять лет старше меня.
Поскольку у меня вообще не было идолов, он тоже не мог им стать. Лауда был гонщикбизнесмен,
это вызывало во мне уважение, но было так далеко от меня, что не особо
интересовало. Кроме того, я не мог в нем найти ни капли общего безумия, для этого Лауда
был слишком приземлён, с тогдашней точки зрения даже скучен.
С самого начала я был уверен в том, что хороший гонщик не может быть славным
парнем. Так что Кеке Розберг хорошо вписывался в мои представления [Финн Розберг,
родился в 1948 году, стал чемпионом в 1982 на Williams-Ford. Он закончил свою карьеру в
1986 году (5 побед в Гран-при) и сегодня является успешным менеджером в гоночном
бизнесе. Живёт в Монако и очень неплохо]. Хотя он был даже старше Ники, но при этом
намного непосредственней. Первые контакты были многообещающими, так как Кеке был
полностью готов следовать за мной до границ глупостей, туда, где всем прочим
становилось слишком круто. В некоторых случаях о нем можно было просто снимать
кино:
Подъезд к трассе Ле Кастеллет, Розберг передо мной. Когда мы остановились перед
воротами, я слегка стукнул его в зад, просто потому что почувствовал необходимость
сделать это. Он спокойно вышел из машины, залез на капот моей BMW, прошёл по
крыше, остановился ненадолго, проверил двумя прыжками ее прочность, спустился по
багажнику, неторопясь вернулся к своей машине и поехал дальше.
Подобными изъявлениями любви Кеке Розберг завоевал мое сердце. Из всех гонщиков
Формулы 1 начала 80-х годов он больше всех походил на тирольца.
Розберг нравился мне и как гонщик, так как в то время я оценивал их не по
результатам, а по шоу, мужеству и тому, как они кидались в драку. У Розберга было
сердце льва и к этому гениальное владение машиной.
Нельсон Пике [Бразилец Нельсон Пике, родился в 1952 году, стал чемпионом мира в
1981 (Brabham-Ford), 1983 (Brabham-BMW) и 1987 (Williams-Honda) годах. Он закончил
свою карьеру в 1991 (23 победы) и в 1992 попал в тяжелую аварию в Индианаполисе.
Сегодня Пике — успешный бразильский бизнесмен и еще время от времени участвует в
гонках на длинные дистанции на BMW] был тоже примерно таким, как представляют себе
гонщика. Он владел кораблём и самолётом, был всегда окружён стильными девчонками и
был свободным, легкомысленным типом. Супер-талант, но, вероятно, не особо
трудолюбивый, что в то время еще не привлекало внимание. Между 1986 и 1988 годами
падающая и поднимающаяся кривые Нельсона Пике и Айртона Сенны пересеклись в
широком спектре соперничества и ненависти. Из-за моей дружбы с Сенной я
автоматически держал дистанцию к Пике, а заодно и к Просту. Прошли годы, прежде чем
я избавился от предрассудков и сегодня я нахожу, что Алан Прост более чем в полном
порядке.
Как гонщик Прост производил на меня впечатление своими четырьмя чемпионскими
титулами, хотя для меня по-прежнему много значило мое представление об идеальном
гонщике. Если Мэнселл обгонял в невозможных местах по внешнему радиусу или Розберг
прыгал через поребрики, то мне это нравилось больше, чем постоянная
производительность того, кого называли «профессором».
Сенна получил отдельную главу в этой книге. Так как он был в хороших отношениях с
Тьери Бутсеном, я тоже сблизился с бельгийцем. Он был упорный гонщик, на грани
великой звезды, но в общем все таки слишком порядочным и безобидным.
Важной фигурой для первой половины моей карьеры стал Найджел Мэнселл. Его никто
не знал хорошо, он был странным типом. В конечном счете, эта непредсказуемость
отразилась на его карьере, и он стал чемпионом только тогда, когда в общем уже было
поздно.
Та сердечная теплота, которую он распространял вокруг себя, не выдерживала более
близкого контакта. Собственно, ему не нужны были друзья и он их не искал. Его
недоверчивость была слегка чрезмерна даже для Формулы 1.
Как гонщик он был природным феноменом, диким и безумным. Он действительно мог
применить ту силу, которая выражалась даже в его телесном сложении. По чистой
скорости я держал его под контролем, но его достижения в гонках стали для меня
проблемой. На протяжении гоночной дистанции Найджел просто лучше справлялся с тему
большими усилиями на руле, которых требовала Ferrari 1989 года. Моя выносливость уже
тогда была так себе, а авария в Имоле не способствовала улучшению положения.
То, что именно этот буйвол стремился продемонстрировать всему миру приступы
слабости и ложился на носилки чаще любого другого гонщика, очень всех веселило. Он
любил театральные жесты. Если получал маленький порез, он не просил залепить это побыстрому
пластырем, а поднимался на подиум и кровоточил для камеры. Он также любил
вылезти из машины и упасть без сил. Каждый раз это было гигантское шоу, и английские
журналисты только еще больше его раздували.
Когда мы расстались, Мэнселл провёл еще один незначительный год в Ferrari и на этом
ему, в общем-то, настал конец, он объявил о своем уходе. А потом он по случайности
получил свободный кокпит в Williams. Мэнселл использовал свой шанс фантастическим
образом. Так он, уже уходя, почти в сорок лет, стал одним из самых успешных гонщиков
всех времен. Лично я очень уважал его за это и, что бы о нем не говорили, он был одним
из тех характеров, которые так нужны цирку Формулы 1.
После Сенны у меня в течении следующих пяти лет был только один единственный
team mate и тем более велика его роль для меня: Жан Алези. У него есть все задатки
настоящего гонщика, прежде всего великолепное владение машиной и храброе сердце.
Если нужно, он становится диким псом и глубоко погружается в безумие за приделами
реальности.
Почему Алези не стал чемпионом мира? Потому что у него, подобно мне, есть
способность оказаться в правильной команде в неправильный год и потому что у него
пропасть между супер-талантом и базовыми основами гоночного вождения. Он слишком
нетерпелив, не интересуется техникой и избегает необходимой работы над мелочами. Что
касается его как человека, то мне понадобилось некоторое время, чтобы это выяснить, но
теперь я знаю: за буйной сицилийской внешностью скрывается добрый парень. Можно ли
пойти с ним разведку, я так и не понял.
Дэймон Хилл считается человеком, который случайно заполучил лучшую машину, был
никем по сравнению с Простом и Сенной, а потом снова благодаря случаю вписался в
поворот и стал чемпионом просто потому, что Williams был чемпионской машиной. Что
значительно меньше бросается в глаза: Хилл — упорный малый, который хорошо умеет
настроить свою машину. Он знал, чего хочет от нее, и умел затем превратить это в
победы. Конечно, время от времени он делал глупости, но были такие этапы, как,
например, дождевая гонка в Сузуке 1994, где он ехал просто сенсационно. Я так понимаю,
что если человек может один раз проехать сенсационную гонку, то у него есть
достаточный потенциал. Вопрос только в том, достаточно ли часто он его использует?
В общем, в моих глазах Хилл выглядит лучше, чем его считают. Как человек он мне
тоже нравится, потому что он такой непосредственный англичанин, как и принято
представлять себе англичан. Однако что творится у него в голове, я не узнал и до
сегодняшнего дня.
Также не стоит забывать, что Хилл был бы двукратным чемпионом мира, если бы
Шумахер не сбил его в 1994 году в Аделаиде. Сезон 1997 дает нам слишком мало
оснований судить об Дэймоне Хилле, для этого команда Arrows слишком экзотична, да и
(по сравнению) коллега Педро Диниц тоже. Этот сын миллиардера хороший парень и
отличный гонщик, который вообще то уже должен был бы сидеть в команде среднего
класса и без приданого. Его просто считают человеком, который привык всегда и везде
приносить с собой деньги. И поэтому ему будет очень трудно попасть в команду-лидер.
Хотя им и не нужны его деньги, но с типичным «плательщиком» они связываться не
хотят, это не подходит к их имиджу.
Существуют много типов гонщиков: с большим природным талантом, особенно
агрессивные, скрупулезные, умные, трудолюбивые, небрежные, такие, которые дико
много работают, чтобы превзойти собственные границы, и такие которым все удается
само. Меня вечно раздирало между природным талантом, который может овладеть всем с
помощью рефлексов и бойцом+рабочим, который в конце и добивается успеха.
Среди «крутых гоночных типов» я бы поставил Розберга перед Алези и Мэнселлом. Но
что касается списка самых выдающихся гонщиков моего времени, то таких было пять:
Лауда, Пике, Прост, Сенна и Шумахер. Из них Сенна и Шумахер в моем представлении
более всего отвечают всем критериям отточенного, идеального гонщика. По сумме своих
качеств они необыкновенно близки друг другу, но поскольку на вершине может быть
только один, то это скорее Сенна. У него была еще и необыкновенная харизма, природное
обаяние, которое понимали на всех континентах.
Михаэль Шумахер является эпохальным событием для цирка Гран-при и событием для
Германии. Штефан Беллоф был последним немецким супер-талантом, фантастическим
гонщиком и сильной, харизматичной личностью. И как раз в той фазе, когда он был на
пути к прорыву и месту в лучшей команде (чем Tyrrell), он разбился во время 1000километровой
гонки в Спа 1985. Это была опасная эпоха для спортивных машин, со
смертельными авариями Манфреда Винкельхока и Йо Гартнера. Машины группы С были
почти так же быстры как и Формула 1, но ни на трассах, ни на машинах у них не было
такой инфраструктуры безопасности как в Формуле.
Я уверен, что Штефан Беллоф при обычных обстоятельствах стал бы одним из великих.
А так Германии пришлось все дольше и дольше ждать гонщика, соответствующего
званию ведущей автомобильной нации.
Поэтому сначала я был озадачен, когда начался весь это вой по поводу Шуми, так как
немцы во многом принимали желаемое за действительное, еще до того, когда стало ясно,
что это парень умеет по-настоящему. Для меня все шло слишком быстро, к тому же
учитывая его поведение, которое можно было бы назвать заносчивым. То, что он в 23 года
уже сцепился с Айртоном Сенной (в 1992 году в Хоккенхайме дело чуть было не дошло
до драки), мне казалось чрезмерным, но сегодня я бы назвал это типичным сигналом: идет
человек с характером.
Мой начальный скепсис, конечно, дал журналистам повод для горячих историй. На
этом можно было немного пощекотать межнациональные эмоции немцев и австрийцев ( а
если так?).
Я не завидовал быстрому взлёту Шумахера, я просто хотел подождать. Кроме того, его
поведение было все-таки несколько самоуверенным, и я выдал одно из моих
высказываний. В газетах он дал мне ответ, мы обменялись репликами, не доводя до того,
чтобы произошло что-то особенное.
Параллельно Шумахер выдал свои результаты и когда-то наступил день, когда мне
пришлось разделять симпатии и спортивные достижения. И мне не оставалось ничего
другого, кроме как признать, что он один из великих. Окончательная точка поворота
наступила, когда я как будто сел в его машину, Benetton, в конце сезона 1995. Я подумал:
«Бог мой, на этой машине он выиграл чемпионат!» Это машина попросту не былa той, на
которой можно стать чемпионом. Только человек, представляющий из себя что-то
особенное, мог сделать это. Тут я окончательно понял, что парень в порядке и, недолго
думая, сообщил это каждому, кто хотел услышать.
Благодаря этому признанию он тоже немного оттаял, и у меня появилась возможность
узнать, что скрывается за фасадом классного парня. В своей любви к порядку он все еще
типичный немец, и я не мог бы себя представить лежащим с ним рядом в шезлонге в СанТропе.
Но между нами все же возникли неплохие товарищеские отношения.
Так я смог сам узнать, что он — совершенно одержимый. Где-то в Европе мы проехали
Гран-при, и у обоих сразу же были тесты в Монце. Это чрезвычайно изнурительно.
Гоночный уик-энд полностью опустошает тебя физически и ментально, и если сразу после
этого нужно тестировать, от усталости тебе хочется только домой. В данном случае
оказалось, что нам обоим потом нужно в Монако, и мы выехали из Монцы вместе.
Михаэль добыл Fiat Ulysse. Его манера вождения сильно напомнила мне мою
собственную несколько лет назад. С красивыми заносами под проливным дождем, во
всяком случае, с невероятной отвагой и полной отдачей. Незадолго перед Монако, было
10 часов вечера, он включил сигнал поворота, мы сворачиваем и едем на картодром.
Имейте в виду, что у нас на руках волдыри, потому что уже восемь дней подряд мы
ежедневно проезжали в машине Формулы 1 по полной дистанции Гран-при, а теперь он
хотел покататься на картах! Я его послал куда подальше, и мы только выпили кофе возле
трассы и, слава богу, поехали домой.
Когда после гонки мы вместе летим, в самолете он первым делом включает
видеокассету. Видеозапись гонки, которую ему только что вручили. Instant Replay! Я хочу
этим сказать: он одержимый и, кроме своего очень большого таланта и опыта, он еще и
находится в той стадии, когда попросту любит все эти вещи и занимается ими с
удовольствием.
Что мне в Шумахере особенно внушает уважение это его ясное представление о том,
что гонки Гран-при — это сложная профессия, которая выходит далеко за пределы
простого нажатия на педаль газа и требует строгого разделения труда. Даже чистые гонки
и тесты поглощают человека дотла и не оставляют лишних ресурсов. Поэтому в активный
период карьеры гонщика все прочие дела должна урегулировать маленькая и чрезвычайно
ловкая группа профессионалов. Именно Шумахер, который родом из автофургона на краю
картодрома, показал всему цирку, как это работает.
Как человек, Вилли Вебер со всеми его золотыми цепочками не особо приятен, но как
менеджер гонщика этот парень просто сенсационен. А как раз в этом бизнесе участвуют
один бог только знает сколько клоунов. Шуми повезло рано вступить в это партнерство.
На этом он сразу списал пятую часть своих доходов, но зато теперь наслаждается
идеальной инфраструктурой. Она дает ему силы для работы и, кроме того, заставляет
процветать торговую марку «Шумахер».
Я родом из совсем других мест. В начале мне нравилось, как занимается своим
бизнесом Ники Лауда: тонко, очень просто и прямо. Он как-то не заботился о «мелочах»,
был выше этого, ему не нужна было помощь в общении с прессой, со спонсорами и уже
тем более ему не нужны были золотые цепочки и прочая чепуха. Ники признавал, что
хорошему гонщику требуется личный физиотерапевт, но он занимался этим как-то между
прочим. Просто бормотал в телефонную трубку «Приходи, у меня болит поясница» и
Вилли Дунгл садился в машину, ночью приезжал в Ле-Кастелле и за завтраком вправлял
ему вывихнутое ребро.
Лауда представлял из себя шоу одного актера, и это тогда производило на меня
впечатление. Сейчас же я думаю, что при правильном маркетинге своей гоночной карьеры
и мерчандайзинге своей личности он бы сегодня зарабатывал в три раза больше, чем на
своей авиакомпании. Возможно, ему это просто не было важно.
В любом случае все переменилось в более многообразную профессию с другими
базовыми элементами гонщика. Шумахер установил планку для сегодняшних времён.
Лучшие профессионалы заботятся о его физической подготовке и работе с прессой, а его
мерчандайзинг проходит через сотни видов товара и каждой поддельной кепкой с
брендом «Шуми» немедленно занимается адвокат.
Я думаю, что первым гонщиком, который профессионально работал над своим
имиджем и рыночной стоимостью, был Джеки Стюарт, и он до сих пор зарабатывает на
этом. Сенна тоже довольно целенаправленно работал над образом «Enterprise Race
Driver», а у Шумахера это изначально входило в концепцию.
Шумахеру, конечно, приходится жить с позорным пятном обоих тактических
столкновений в решающий момент чемпионатов мира. В 1994 в Аделаиде маневр против
Дэймона Хилла удался. В 1997 в Хересе против Вильнева он капитально пролетел. Если к
этому добавить умные действия Проста против Сенны (1989, Сузука) и жёсткий реванш
(год спустя в том же месте) то при общем подсчёте получается четыре победы нокаутом за
девять лет. Некоторым образом это вошло в норму вещей, в последней или предпоследней
гонке превентивно убирать соперника с пути.
Благодаря большой безопасности современных монококов столкновения стали в
некотором роде абстрактными, как в билиарде. Так же выбирались те места, которые
считались «безопасными». Как правило, футбольный фол, которым валят нападающего,
физически более рискованный, чем столкновение между двумя пилотами в машинах из
углеволокна на скорости 150 км/ч.
Таким образом, все сводится к тому, что любой боевой вид спорта жесток ровно
настолько, насколько это позволяет судья. После этих действий я бы не стал начинать
дискуссию о морали гонщиков: они живут в раздражающей атмосфере спортивного
инстинкта убийцы, все их рефлексы направлены на полное использование правил, и они
пробуют любое бесчинство, пока им не покажут красную карточку. ФИА долго ждало со
своими красными карточками. В будущем решающие схватки чемпионата будут вестись
более тонко.
Жак Вильнев был изобретением Берни Эклстоуна, и нам было очень интересно чего
стоит «лучший оттуда». Однажды у нас уже был «лучший оттуда», в 1993 году Майкл
Андретти в McLaren. Но он быстро сдулся и стал посмешищем для всей Формулы 1.
Вильнев же получил очень хорошие стартовые условия с превосходным Williams.
Первым делом выяснилось, что Вильнев, в общем-то, не мог опередить Дэймона Хилла,
и тем более не в дождь. Но к этому надо добавить, что это был его первый сезон, и в
Америке не ездят, когда становится мокро. В общем, остались вопросы.
В новом сезоне к нему в команду пришёл Френтцен, которому предписывают большую
природную скорость. Тут сразу обнаружилось, что Вильнев очень крепкий парень,
который не начинанает сразу нервничать. И внезапно Френтцен начал проигрывать
Вильневу, который, как правило, был просто быстрее. Между делом Вильнев в 70%
случаев хорошо настраивает свою машину, а остальные он полностью проваливает.
Только благодаря этому у Шумахера вообще появился шанс приблизиться к нему в
чемпионате.
Между делом все поняли, что кроется в этом парне. Если Патрик Хед со своим
столетним опытом утверждает, что нужно поставить зеленую пружину, то
свежевылупившийся канадец говорит «Хей, а я хочу красную пружину». Такая крутизна
редко появляется даже в нашем экзотическом цирке. Вильнев упрямец, не терзается
сомнениями. Он нашёл путь не дать себя сожрать Молоху. Красит он свои волосы в
желтый или синий цвет, это малая часть той внутренней свободы, о которой и так все
знают.
Я по-прежнему думаю, что у Вильнева нет никаких шансов против Шумахера, если
посадить обоих в одинаковые машины. Возможно, следовало бы ожидать от канадца
большего, чем он показывает. То как он психически и ментально справился с финалом
1997, поразило весь мир.
Мика Хаккинен нравится мне как человек и как гонщик. Его прямой подход к вещам
выражается в короткой, агрессивной манере разговора. Он целенаправленно подходит к
сути дела, и все заканчивается «да» или «нет». Я никогда не знал Ронни Петерсона [швед
Ронни Петерсон, 1944 года рождения, выиграл между 1973 и 1978 годами десять Гранпри
(девять из них на Lotus) и 14 раз стоял на поуле. Он умер в результате аварии в
Монце в 1978], но я представляю его себе немного похожим на Хаккинена. У Мики
сумасшедшая скорость, но не постоянная. Иногда он доводит машину до цели, иногда нет.
Но если ему удалось правильно настроить машину и если это трасса его типа, то -гасите
свет. Он склоняется к тому, чтобы притягивать неудачи, в любом случае он пару раз
останавливался при дурацких обстоятельствах, в которых не был повинен (это мне
знакомо). Соответственно, ему понадобилось много времени, чтобы выиграть первую
гонку, но я уверен, что теперь последуют много побед.
Хайнц-Харальд Френтцен приятный, корректный коллега. У него и подавно нет
ментальной прочности Вильнева, поэтому он раним и подвержен внешним влияниям
Конечно, Френтцен — не единственный чувствительный гонщик во всем «цирке», но:
нельзя дать чувствительным сторонам своей души создать впечатление слабости, а
спрятать ее за обычной в нашем бизнесе твёрдостью. Френтцену это трудно даётся и
атмосфера команды Williams тоже не очень помогает в такой ситуации. Что касается его
настоящей скорости, то это мы окончательно поймем в 1998 году. У него еще есть шанс
все перевернуть и получить контроль над ситуацией.
Дэвид Култхард тоже один из приятных парней. Мне трудно поставить его на одну
ступень с Хаккиненом в отношении базовой скорости. Но, по крайней мере, в 1997 году
он, казалось, лучше умел использовать шансы. И пусть иногда решающей оказывалась
обычная удача. Что ж, надо иметь везение, я в этом кое-что понимаю.
Из молодых я бы назвал лучшим Джанкарло Физикеллу. Он часто хорошо настраивает
свою машину, почти не попадает в аварии и супер-быстр. По поведению он не мой тип:
золотые цепочки на каждом запястье и надвинутые на лоб темные очки. Возможно, ему
немного не хватает английско-скандинавской натуры, уже упомянутой твёрдости в
голове, которая очень помогает в климате Гран-при.
Если уходящий австрийский гонщик остается сдержанным по отношению к
занимающим освободившиеся место молодым австрийцам, то это, возможно, кажется
странным или даже завистливым к молодости и свежим шансам. Но я надеюсь, что ко мне
это не относится.
Как человека, я слишком мало знаю Александра Вурца. Я только вижу, что для своего
менеджмента он собирает вокрут себя людей, которые мне не нравятся. Не вопрос, у
Алекса есть талант. Является ли он супер-талантом? Тут я настроен скептически, вообщето
он мог бы больше показать в Формуле 3. В Формуле 1 одно третье место в
Сильверстоуне говорит о меньшем, чем тот факт, что ему удалось победить Алези в двух
из трех квалификаций. Это действительно захватывающе. Вурц завоевал себе шанс в
Benetton, теперь он может его использовать. Если у него получится, я буду искренне ему
аплодировать.
Отец
Наша семья функционировала обычным для шестидесятых годов порядком. Мама
воспитывает детей (Клаудия была на четыре года младше меня), готовит еду, стирает,
объединяет все частные стороны жизни. Отец каждый день по двенадцать часов на работе,
зарабатывает с нуля средства к существованию.
Однажды он купил грузовик, потом второй, и в один прекрасный день у него их стало
двести пятьдесят.
Мои воспоминания начинаются еще в период нашей бедности. Я уже рассказывал в
главе “Ferrari”, что две недели каникул в Риччионе были вершиной семейной жизни,
настоящим блаженством. Сначала мы пользовались водным велосипедом, но вскоре
наступила очередь арендованного мопеда и трассы картинга.
У моего отца не было типичной для взрослых боязливости. Он разрешал мне почти все
намного раньше положенного обычно времени. Первый маленький мотоцикл я получил в
шесть или семь лет. В двенадцать я хотел мопед, но отец полагал, что нельзя излишне
напрягать великодушие жандармерии. Потом я сломал ногу, катаясь на лыжах. Это
разжалобило его, и он купил мне мотовелосипед, чтобы мне не нужно было далеко
ковылять в гипсе. Гипсовая нога впоследствии поехала со скоростью 80, потому что
мотовелосипед, разумеется, был улучшен.
Тогда предприятие отца работало уже очень успешно. Я заметил это по тому факту, что
получил в подарок замечательные лыжи и лыжные ботинки.
Половину каникул я должен был работать на фирме. Сначала это были
вспомогательные обязанности в бюро. Потом уже была регулярная работа в мастерской.
Так я получил хорошее понимание того, как устроен мир, и рано стал самостоятельным.
Мне было не больше 16, когда отец стал ссужать мне деньги на покупку автомобилей
после аварии. Я ремонтировал их и снова продавал, естественно, с прибылью. Я должен
был своевременно и точно возвращать деньги, как в банке, вместе с накладными
расходами. Я понял раз и навсегда: “выручка минус инвестиции минус расходы равняется
чистой прибыли”. В Тироле у нас есть для этого грандиозное понятие Uberling [на
русский удачнее всего перевести как «навар»], лучше суть дела и не выразишь.
Частью системы было также и корректное деловое поведение. Я вполне мог бы
высказать пару хитрых идей, как можно было бы на аварийном автомобиле урвать со
страховой компании еще один быстрый шиллинг. Но отец был тут непреклонен и говорил,
нет, так мы делать не будем. При всей ловкости его делового ума у него всегда были
четкие границы поведения. И так же четко он передал их мне.
Раннюю самостоятельность взрослого человека я воспринимал фантастически, ни в
коем случае не как обузу, а как предмет, обогативший мою юность. Я совершенно
убежден, что метод, по которому я взрослел, имеет много общего с более поздними моими
успехами и оптимистичным отношением к жизни.
Единственная тема, в которой у нас с отцом возникали проблемы, была моя школьная
карьера. Он мечтал о сыне, который ходит в умную школу, да еще и учится там каким-то
умным вещам.
Это не могло воплотиться. Для этого я был чересчур нахальным и непокорным учителям,
кроме того, вся эта школа меня абсолютно не интересовала. Поэтому вся энергия
автоматически должна была вылиться в разные выходки, в то, что сейчас называют
practical jokes [практическая шутка].
Я добился того, что мне можно было учиться на автомеханика, и эта профессиональная
школа уже сама по себе была достаточно неприятной. Мои шутки над учительским
корпусом были действительно беспощадны, зато ученические успехи были на нулевой
отметке. Основное заключение учителей было: “Бергер, из тебя никогда ничего не
получится”.
Как отец смог в самый дикий период моей жизни (скажем, от 12 до 18 лет) остаться
хладнокровным, можно объяснить только его огромной сердечностью и мужеством. Он не
боялся за себя, поэтому не боялся и за сына, какие бы глупости тот не совершал. Ему было
приятно не знать обо всем, но о большинстве он узнавал все равно. Он проявлял
авторитарность лишь тогда, если не мог этого избежать, например, если звонили из
жандармерии.
В восьмидесятые годы фирма Йоханна Бергера была зарегистрирована как крупное
транспортное предприятие. Отец отделил одно из подразделений (“Europatrans”) и передал
его мне, предполагая тем самым мое развитие как предпринимателя. Вначале это было
очень увлекательно, но позднее все хуже стало совмещаться с моей профессией гонщика.
Я потерял интерес к нашему бизнесу, который совершенно не подходил к моему
внутреннему миру, и подвел окончательную черту под ним. Благодаря моим доходам в
качестве гонщика я довольно рано стал финансово независим и уговорил отца немного
сбавить темп его работы.
Он был действительно невероятным борцом, не знающим покоя и неутомимым
предпринимателем. Предприятие с персоналом в 500 человек имело отделения:
транспортного дела, продажи автомобилей, производственное (комплектующие к
грузовым автомобилям), топливное и мастерскую. Фирма имела годовой оборот почти в
миллиард шиллингов и достойную прибыль. Отец мог бы вернуться к спокойной жизни и
чаще сопровождать меня. В самолете всегда было для него место, конечно, и на корабле
тоже. Но он стал к тому времени односторонним и не мог больше выбросить бизнес из
головы.
Он не мог торчать возле меня, глядеть на море и радоваться, если на поверхности
плеснет рыбка. Он радовался только, если видел свои шины, контейнеры, моторы и
электродинамические тормоза-замедлители. В этом отношении мне было его жаль, все же
я был рад, что являюсь другим. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы после
периода полнейшей концентрации вновь отключиться и начать валять дурака.
За исключением этого наши отношения были настолько прекрасны и гармоничны,
насколько это вообще может быть между отцом и его выросшим сыном. Он волновался
вместе со мной и был моим восхищенным болельщиком и другом. Я, в свою очередь, попрежнему
уважал его талант как бизнесмена. Не было ни одного контракта или опциона в
моей карьере, который я не обсуждал бы с ним.
Моя сестра идеально подходила в семейную идиллию. С ней можно было и в огонь и в
воду, веселой, остроумной, озорной. Как семья Бергеры, отец, мать, дочь и сын были
очень счастливы.
ой отец был арестован 9 августа 1994 года в Киферсфельдене. Киферсфельден –
пограничный город на немецкой территории. На другой стороне – Куфштайн и М Вергль, все это считается нижней долиной реки Инн и тесно связано друг с другом. Отец
был на ужине у бургомистра, когда жандармы очень вежливо попросили его выйти и
почти извинились за то, что они, к сожалению, должны его арестовать. Он был
препровожден в Ульм, в камеру предварительного заключения немецкого ведомства.
Я был на яхте в Сен-Тропе, там же была и Клаудия. Позвонила мама и рассказала об
аресте. Хотя я был очень сильно сбит с толку, но подумал об этом только как о забавной
путанице, которая должна быстро разрешиться.
Сначала я уловил следующее. В бизнесе моего отца, оперирующего по всему миру,
вполне могли оказаться несколько контактов различного рода, обстоятельства которых
нужно было вначале проверить. Бизнес стал интернациональным. У отца не было боязни
новых контактов, и он считал себя способным на многое. У него было также честолюбие
игрока, который хотел бы стать особенно ловким. Если что-то пошло не так, вполне могло
случиться, что он из-за простого контакта с одной из таких фигур попал в сферу
интересов прокуратуры.
Между тем нам стало с неутешительной стороны известно o делe Рамозера. Обыск в
доме отца хотя и стал достаточно тревожным сигналом, но мы считали его максимумом
всех неприятностей. Одно требование немецких чиновников явиться на допрос отец не
выполнил, поскольку его адвокат заявил о возможности вполне провести его и в Австрии.
Так что он без опасений вновь поехал через границу, как почти каждый день, поскольку в
Киферсфельдене у него тоже было предприятие.
Я полетел в Штутгарт, где производились первые допросы участников процесса. После
разговора с адвокатом я был убежден, что через два-три дня мы вытащим отца.
Подозрение против него было следующее. Мнимой готовностью инвестировать в
предприятие по производству деревянных профилей в швабском городе Троссинген он
якобы поддержал махинации итальянца Джанфранко Рамозера. Рамозер задумал аферу со
стрoительством этого завода и выманил при этом у немецкого банка кредит в 17,5 млн.
марок. В действительности Рамозер еще до того имел существенные долги перед моим
отцом (по лизинговым сделкам и распродаже грузовиков). Так следствие подозревало
заинтересованность отца в получении Рамозером денег.
Через несколько дней Йоханн Бергер отнюдь не был на свободе, и я стал подумывать,
что дело может затянуться.
Что касается атмосферы общения, это была катастрофа. Столь избалованная звезда, как
я, с такими жизненными аспектами никогда до этого не сталкивалась. Вот вдруг –
тюремные ворота, и вместо “Здравствуйте, господин Бергер!” слышишь “Ждите, пока Вас
не вызовут”. Недостойные постыдные обстоятельства встречи с отцом, вместе с
ежесекундно бдящими надзирателями. И как обливалось кровью сердце при прощании,
поскольку я не мог ему помочь.
Вначале у меня были некоторые сомнения, не сам ли отец виноват в своем бедственном
положении. Может быть, он слишком уж схитрил, сунул нос куда-то и не высунул
своевременно?
Но чем больше я засовывал свой собственный нос в это дело, тем больше погружался в
невероятное болото, которое образовалось на протяжении пяти лет.
Очевиден был, во-первых, крупный трюк в общем-то посредственного мошенника. Он
хотя бы потому не мог принадлежать к высшей лиге, поскольку был уже осужден и
перемещался между немецкими, французскими и швейцарскими тюрьмами. Повсюду на
него был спрос. Но все говорило о связях с высшим эшелоном, также и тот факт, что все
17 миллионов марок исчезли, как по волшебству. Раз некоторые следы вели в Италию,
недалеко было и предположение о связях с мафией, во всяком случае, об этом открыто
говорилось.
Очевидно было также, что немецкий прокурор решил играть по-крупному. Он
помешался на том, что «главным мозгом», который, так сказать, управлял Рамозером,
должен был быть Йоханн Бергер.
Большое болото возникло также из-за ошибок второстепенных участников. Это был
прежний адвокат моего отца, это были, прежде всего, служащие обеспечившего кредит
банка, которые сыграли странные роли, это был один известный архитектор с
ошибочными строительными отчетами. Так друг на друга наложились большой удар и
маленькие мошенничества.
И в центре всего – мой отец, который во всей этой игре единственный обладал двумя
качествами: он был уязвим, и он обладал существенным состоянием, на которое можно
было обратить взыскание. Иначе уже давно вся сущность этого дела, “конструкция”
которого восходит к 1989 году, испарилась бы.
Ситуация развивалась настолько абсурдным образом, что было невозможно
предположить, когда будет (и будет ли вообще) предъявлено обвинение. Между тем мы
беспокоились за здоровье отца. Годом ранее ему удалили надпочечник, причем в крови
были обнаружены опухолевые клетки. С тех пор он был под постоянным врачебным
уходом, который теперь полностью прекратился. Даже такие простые вещи, как взятие
крови, приравнивались к делу государственной важности. Было непостижимо, с каким
рвением прокурор затягивал обследование специалистом по опухолям из Мюнхена
(между делом приходила немецкая военврач и сказала после визуального контакта: “С
ним все в порядке”)
Все это дело затрагивало меня еще и потому, что я не мог полностью выбросить его из
головы во время работы. Какой смысл работать в зале, приводя в движение тренажеры,
вместо того, чтобы еще большие рычаги привести в движение для освобождения отца,
который нуждался в срочном медицинском обслуживании?
В таких ситуациях Ferrari не сравнить ни с кем. Ты нигде не найдешь большего
понимания по личным проблемам, к тому же касающимся семьи. Я мог поплакать в
жилетку как у Монтеземоло, так и у Жана Тодта, оба оказывали большую помощь.
Как в плохом сценарии, нас неизменно преследовали неудачи. При подаче жалобы в
земельный суд выяснилось, что наш адвокат пошел на тайную сделку с прокурором (как в
Америке, половинное признание / пoловинное наказание), что для отца просто не могло
быть предметом разговора. И вот у нас новый адвокат, незадолго до напрасно ожидаемого
освобождения. И тут прокурор достает какой-то чек и говорит, а этот миллион откуда?
Это вообще не касалось отца, как выяснилось вскоре, но освобождение вновь накрылось
медным тазом.
Для разнообразия меня пытались шантажировать («6 миллионов долларов за
оправдательные материалы, которые немедленно повлекут освобождение вашего отца»).
Вообще во всем этом деле мой авторитет не стал помощником, а лишь окрылял фантазию
партнеров и авантюристов. И роль моего отца в качестве тирольского примерного
предпринимателя влияла на весь процесс скорее негативно. Имелся по крайней мере ктото
один, достаточно ценный, чтобы вцепиться в него. Рамозер сам по себе был никто, да к
тому же давно за решеткой.
Через пять месяцев после ареста это дело в своей абсурдности стало настолько
привлекать внимание, что журнал “Spiegel” посвятил ему целый разворот. Заголовок:
“РАЗНОВИДНОСТЬ ОГРАБЛЕНИЯ БАНКА”, как назвал перед судом свою аферу
приговоренный Рамозер. Для своих махинаций “Рамозер использовал бесчисленных
людей в качестве инструментов”, приводилась цитата из приговора штутгартского судьи.
Что касается так называемого соучастника Бергера, то “Spiegel” поражался
бросающемуся в глаза озлоблению штутгартской прокуратуры (“хочет определенно
показать австрийцу Бергеру свою жесткость”), беспечности банка и политике сокрытия
фактов в земле Баден-Вюртемберг. «Кажется, что для каждого прокурора очень заманчиво
непреклонностью против авторитетных подозреваемых отвести обвинения от упущений
местных банковских менеджеров”.
осле более чем полугодового предварительного заключения, все еще без
предъявления обвинения, моего отца выпустили на свободу. Правда, с запретом П выезда с территории Германии и залогом в два миллиона марок. Он вместе с мамой
оборудовал квартиру в Киферсфельдене, ждал своего процесса и пытался управлять
фирмой на расстоянии, насколько это было возможно.
А там во время отсутствия отца разыгралась следующая драма. С момента его ареста
все десятилетиями выстроенные банковские и деловые отношения фирмы Бергера в
Вергле вдруг практически обесценились. Возникла иррациональная паника, которая в
самый неблагоприятный момент пошатнула положение фирмы. А неблагоприятным
момент был потому, что предприятие сделало большие инвестиции, среди прочего – в
развитие новых продуктов. Папа видел шанс сделать бизнес в мировом масштабе
благодаря патенту вихревого тормоза (дополнительная система торможения для
грузовиков). И вдруг все разговоры о продаже моментально прекратились, поскольку твое
предприятие оказывается втянуто в мошенническую аферу.
Я сам не мог и не хотел заниматься фирмой, поскольку тогда должен был бы завязать с
гонками.
Руководство фирмой моей сестрой и ее мужем шло не совсем так, как представлял себе
папа.
Все это вело к тому, что у Йохана Бергера по ту сторону границы постепенно
кончалось терпение. Грызня между земельным судом и прокуратурой не позволяла ни
прекратить расследование, ни предъявить обвинение, и однажды отцу все это надоело. Он
переехал через границу, прямо в суд Иннсбрука, и предстал перед австрийскими
чиновниками. С немецкой точки зрения этот поступок был “побегом”, однако на самом
деле не представлял ничего иного, как перенос судебного процесса в Австрию.
Внешние обстоятельства стали лучше, но добавились новые проблемы. Уважаемый
ранее бизнесмен Йохан Бергер очутился в социальном вакууме (в Тироле это происходит
удивительно быстро), кроме того, он вступил в едва выносимую для него конфронтацию с
дочерью. Клаудия стала высказывать странные мысли, точнее говоря, мысли своего мужа.
Так же, как за время предварительного заключения семья самым тесным образом
сплотилась, так теперь разыгрался совершенно другой, кошмарный сценарий. Отец,
психически и физически измотанный, чужой в родном городе, с трудом узнавал свою дочь
и не знал, как дошло до того, что ему был запрещен вход на собственную территорию.
Дело зашло столь далеко, что семья распалась. Отец потерял дочь, а я – сестру.
За месяцы и годы этой катастрофы я все отчетливее узнавал себя в отце. Его
пионерский дух, его сила, его таланты дали мне шанс на фантастическую карьеру. Этой
жизнью, которая делает меня таким счастливым, я по большей части обязан ему. Так что в
определенный момент для меня не стало ничего более важного, чем помочь ему вновь
обрести личность, репутацию, честь. И это старомодное слово я применяю здесь
полностью намеренно.
Процесс был подготовлен в Иннсбруке, теперь с доктором Рудольфом Визером в
качестве адвоката отца. Это был старый лис в области уголовного и хозяйственного права
из Иннсбрука. Материалы дела наполняли 109 толстых офисных папок, все разрослось
настолько чудовищно, что личности моего отца почти нельзя было там найти.
С момента “побега” прошло еще полтора года, пока дошло до процесса против
Нагиллера (адвокат отца в период возникновения дела) и Йоханна Бергера по статье
“Cоучастие в мошенничестве”. Суд отказался от применения предварительного
заключения, папа снова мог вести в некоторой степени нормальную жизнь. Фирма также
понемногу раскручивалась, и все продвигалось в нормальном направлении.
Когда срок суда приблизился, не было абсолютно ничего, что омрачило бы
предвкушение радости от ожидавшегося оправдательного приговора. Все инсайдерские
сплетни юристов, каждая внешняя деталь и лучившийся уверенностью доктор Визер
указывали на благоприятный исход дела.
Март 1997. Позади для меня остался Гран-при Австралии, перед обеими гонками в
Южной Америке последние тестовые заезды Benetton проводились в Сильверстоуне. В
зале суда для отца друзьями были подготовлены поздравительные транспаранты, а у меня
под рукой был мобильный телефон. Мой представитель в прессе Вальтер Делле Карт
должен был позвонить мне сразу после вынесения оправдательного приговора.
Телефон наконец зазвонил. Но это был Георг Киндль из “Ньюс”. Что я думаю по
поводу приговора?
“Какого приговора?”
“Ну…пять лет и четыре месяца”.
Наверное, всю жизнь у меня будут мурашки по коже при воспоминаниях об этом
моменте.
Я не мог дальше вести машину, прервал заезды и вылетел домой к родителям. Адвокат
подал кассационную жалобу, так что отец был на свободе.
Кроме того, что мы пытались утешить друг друга, я усиленно размышлял о
предшествовавшей неверной оценке ситуации. Какое объяснение существовало для такого
гротескного ошибочного приговора?
Естественно, нашего адвоката нельзя было рассматривать как объективную сторону
этого процесса. Тем не менее, я попросил его как можно понятнее, то есть не на
юридическом диалекте немецкого, изложить закулисную сторону событий.
Цитирую доктора Рудольфа Визера: “Суд исходил из того, что Йоханн Бергер был не
жертвой Джанфранко Рамозера, уже давно осужденного за мошенничество, а
соучастником. Он представил себя потенциальным инвестором фабрики по производству
деревянных профилей в Германии, которая никогда не была построена, и тем самым
способствовал обеспечению кредитных потоков Рамозеру. О том, как последнему могло
удаться выманить деньги в потерпевшем банке, в судебном выступлении было сказано
следующее касательно его личности: он был “настоящим мастером обмана, способным не
только убедительно рассеивать возникавшие в отношении него опасения, но и
привлекательно представлять планы и намерения”. Суд констатировал, что только так
можно объяснить тот факт, что Рамозер по не зависимым друг от друга делам почти
одновременно смог выманить у пяти банков четверть миллиарда шиллингов. Было
признано, что все директора банков могли бы позволить Рамозеру обмануть себя, только в
отношении Йоханна Бергера такой возможности признано не было”.
Доктор Визер далее: ”Приговор, вынесенный в Австрии, базировался на
предварительных расследованиях, проведенных исключительно в Германии. Все три
главных свидетеля отклонили просьбу прибыть в Австрию: Рамозер (под арестом во
Франции), немецкий планировщик-архитектор, который обманул банк мнимым
прогрессом в строительстве, и, наконец, (немецкий) директор банка собственной
персоной, который разрешил выплаты, несмотря на то, что существенные условия
одобрения кредита (поток собственных денежных средств, подтверждения инвестиций) не
были выполнены и несмотря на то, что у него был ревизионный отчет собственной
правовой службы о том, что в этом деле некоторые детали подозрительны”.
Доктор Визер к вопросу мотивов: “Никто так и не смог объяснить, какой мотив мог
иметь Йоханн Бергер для того, чтобы за те два миллиона марок, которые он, как
тогдашний кредитор, охотно получил бы от Рамозера обратно, заниматься криминалом
такого масштаба. Поскольку дело о пропавшей кредитной сумме должно было бы
неизбежно в один прекрасный день открыться. Другого не дано. Почему человек, который
обеспечен и владеет уважаемой фирмой, одним словом, совершенно не намеревающийся
уходить в подполье, станет заниматься этим?”
После первого шока все надежды обратились к Верховному суду. Мы все единодушно
были уверены в успехе, и отец тоже.
ежду тем положение фирмы стабилизировалось. Нужно было внедрить новое
руководство предприятием, которое в сотрудничестве с Йоханном Бергером стало М бы использовать его ноу-хау на благо фирмы. Для увольнения старого директора и
назначения нового, Альберта Майера, была согласована дата – 9 июля 1997 года -в
Зальцбурге, в канцелярии адвоката. Эта дата должна была стать для отца самым
радостным, что он пережил за последние три года, поэтому он пребывал в эйфории.
Майер находился в Лихтенштейне, Бергер в Вергле, адвокат в Зальцбурге. Посреди
лета – идеальное положение дел для восторженного пилота спортивного самолета. Да к
тому же отцу была противопоказана прямая дорога по автобану в Зальцбург. Она
проходит по немецкой территории. А в Германии Йоханн Бергер по-прежнему считался
лицом, подлежащим аресту (статья шенгенского соглашения, по которой австрийский
судебный процесс отменял бы немецкий, еще не вступила в силу). Так что совершенно
естественным выглядело, что отец заберет Майера в Вадуце и летит с ним в Зальцбург.
Так и договорились.
Необычно для этого времени года, 9 июля в нижней долине Инна господствовал туман.
Это была погода, в которую полета для удовольствия точно не получится. Но, учитывая
важность встречи, условия были довольно сносными. Кроме того, Йоханн Бергер никогда
еще не принадлежал к категории чересчур осторожных. В противном случае пришлось бы
отменить встречу, поскольку у Майера не было другой возможности вовремя прибыть в
Зальцбург.
Одномоторный самолет был марки Robin – французская 4-местная спортивная машина,
двигатель Porsche, с очень хорошим оснащением, более чем солидный спортивный
самолет, которым отец владел уже верных 10 лет. У него был большой налет, и вообще он
был опытным пилотом. В основе своей машина предназначалась для визуальных полетов,
но имела и инструменты для аварийных случаев.
Майер ждал на вышке в Лихтенштейне, пока не пришло известие: Йоханн Бергер
разбился.
Весть застала меня в Лондоне.
Это так жестоко меня потрясло, что я не могу описать. То многое, что составляло для
меня смысл и имело ценность, в один момент рухнуло.
Совершенно обычная любовь сына к отцу за эти три года стала еще сильнее и
драгоценнее. Я был совершенно ясно убежден в его невиновности и в той
несправедливости, которой он подвергся. Важнейшей целью моей жизни стало помочь
преодолеть ему этот кошмар. Никакая успешная спортивная карьера не была столь важна
для меня, и потому судьба моего отца наложилась на три гоночных сезона.
Я позвонил маме. Полиция уже была у нее. Несчастье произошло практически у ворот
дома, по прямой около трех километров.
Я полетел в Мюнхен, попросил встретить меня в аэропорту и поехал к маме. По дороге
я проезжал аэродром Куфштайн-Лангкампфен. Пилоты-коллеги отца были там, все
рыдали. Объяснения мало чем помогли: какой туман был утром и как могла случиться
трагическая ошибка.
Я поехал дальше, к маме. Мы переживали событие, которое отличалось от всего ранее
пережитого. В моей жизни часто бывало, что распахивалась какая-то дверь, и я вдруг
оказывался в совершенно новой области, получал совершенно новый опыт. Но теперь все
было гораздо хуже, даже не с чем было сравнивать. Несколько аварий, происшедших со
мной и с другими, вызывали во мне иногда сходные чувства. Для тебя все еще не так
плохо, как для других, которые страдают намного больше.
Заниматься чем-то – вот было лучшее средство, чтобы как-то пройти через это
испытание. Организация похорон помогла мне немного отвлечься от себя самого. Это был
определенный рабочий процесс, которого я хотел придерживаться. А в стенах родного
дома в голове была одна единственная мысль: он больше не вернется.
ело осужденного на пять лет предпринимателя, отца известного гонщика, для
Д
рейтинговых телеканалов и бульварных газет стоило спекуляций о самоубийстве. Для
меня же это было ужасной насмешкой над тем, что действительно произошло, а у меня
уже не было сил для достойного ответа.
И в серьезных источниках высказывались различные теории о событиях,
происходивших в катастрофе. Я хотел прояснить для себя картину и позвонил своему
другу Зиги Ангереру. Он выбрал вертолет, и мы полетели к месту крушения. Правда, из-за
тесно ограниченного пространства на местности не смогли найти его с воздуха. Зиги
высадил меня, и я поехал дальше на машине. Обломки обнаружились на лесистом горном
хребте. Пожарные, которые разбирали обломки, все были приятелями отца. Это была
земля его детства, дом его родителей располагался примерно в пятистах метрах отсюда.
От обломков и особенно от кабилы пилота мало что осталось.
Хотя происходившее и никогда не удастся обосновать данными, но все достаточно
хорошо объяснимо, чтобы не допускать каких-то домыслов о таинственных
обстоятельствах.
Все произошло через две минуты после взлета, что подтверждает малая высота точки
столкновения с землей.
Учитывая положение аэродрома в долине, вполне достаточно одной-единственной
ошибки, какая может случиться в условиях слепого полета с пилотом, обычно летающим
в условиях видимости. Легко теряется чувство горизонтали. Тот, кто не обучен
постоянному наблюдению за инструментами, а ждет, когда снаружи можно будет чтонибудь
увидеть, может очень быстро оказаться в наклонном положении ( по максимуму –
и вниз головой), не чувствуя этого физически. Соответственно, самолет выполняет
невольный вираж. Вираж может становиться все круче, вплоть до скольжения самолета.
Если, конечно, в это время самолет не выйдет из тумана или облаков. Так что сочетание
тумана и горного хребта позволяет очень достоверно объяснить произошедшее.
Я поехал домой и рассказал об этом матери и сестре. Мы с Клаудией в эти дни
пытались найти деловой тон друг для друга, чтобы обсудить самое необходимое и не
осложнять еще больше положение мамы.
На следующий день я искал хорошее место на кладбище и не мог найти, поскольку все
уже были зарезервированы. Так я узнал, что люди бронируют себе места на кладбище
заранее, и что может получиться так, что ты не найдешь подходящего. Я выбрал гроб и
вел переговоры с персоналом ритуального предприятия. В общем, в эти несколько дней я
начал понимать, что есть такие стороны жизни, о которых я до сих пор не имел понятия.
Тело отца перевезли для обычной процедуры вскрытия в судебный морг Инсбрука. Я с
матерью и Клаудией поехал туда. Один из нас должен был подтвердить личность, но
оказалось, что достаточно примет, которые я сообщил. Тем не менее, я хотел увидеть его
еще раз. Меня отговаривали, поскольку после аварий такого рода можно получить
последние впечатления, какие лучше бы не получать. Так, нам осторожно показали
фотографии повреждений головы. Оказалось, что ты просто не замечаешь этих ранений у
человека, которого любишь. Они ничего не значат и не меняют картину воспоминаний.
Мы трое определенно хотели этой встречи, и все прошло совсем не плохо. Я был рад
этим минутам, и тому, что я еще раз смог прикоснуться к отцу. Только в этот момент мне
стало ясно, что мой отец мертв. До тех пор все было как в кино. Потом Клаудия захотела
еще немного побыть с ним наедине. Я уверен, что тогда они оба заключили мир.
На следующий день отца перевезли в морг Вергля. На кладбище нам все-таки удалось
найти “прекрасное место”. Родственники и друзья приехали отовсюду, было невероятно
много венков и телеграмм соболезнования. Я увидел тогда, как важен был мне каждый,
кто прислал телеграмму или венок. На похоронах было две тысячи человек, и я
чувствовал каждого в отдельности.
Мне было важно организовать для отца красивые похороны. Он так гордился своими
достижениями и своей фирмой, а эти чувства последние три года в нем последовательно
убивали. На прощание их еще раз надо было почувствовать. Я думаю, что это удалось.
Я выступил, это не было обращением к людям, это был разговор между мной и им, и я
едва смог договорить до конца.
Какие, оказывается, мелочи обретают значение и ценность: за неделю до этого отель
“Штангльвирт” в Гоинге пригласил моих родителей, когда я восстанавливался там после
операции на челюсти. Там отец впервые увидел Хайди, свою внучку.
Я не мог выступать в Сильверстоуне. И уже пропустил три гонки, поскольку мои
проблемы с гайморовыми полостями решались только обширным лечением.
В такой ситуации я прибыл на Гран-при Германии в Хоккенхайм. Мой собственный
руководитель команды сомневался, в состоянии ли я буду после долгой паузы показать
что-то более-менее достойное. Флавио Бриаторе никогда не был большим мотиватором.
В квалификации я проехал круг столь гладко, убедительно и правильно, что он просто
обязан был быть в порядке. Когда я на круге возвращения получил сообщение “Поулпозиция”,
впервые за восемнадцать лет гонок из моих глаз полились слезы. Я думал
только об отце, все пронеслось у меня в голове, я видел перед собой обломки самолета и
вспоминал отрывки из речи священника на похоронах. Впервые в жизни я действительно
прислушивался к тому, что говорит священник. Собственно, этого поула уже было бы
вполне достаточно для всего, что я хотел показать и выяснить. Но перед отходом ко сну я
подумал, что теперь можно было бы и всю гонку выиграть. Тут было важно со старта
остаться лидером, и я выиграл старт, зная, сколько секунд преимущества мне нужно,
чтобы оправдать два пит-стопа. Мне нужно было 17 секунд, план гонки выполнялся
великолепно. Вдруг на Stewart, которого я обгонял на круг, взорвался мотор. Возникла
завеса, которую я еще никогда не видел в Формуле 1. Я влетел в нее на 300 км/ч и
подумал – если там кто-то есть, я погиб. Тогда я притормозил и проехал в прогулочном
темпе через эту завесу, зная, что где-то там – въезд на мотодром. На этом я потерял
четыре секунды, и, собственно, на этом, гонку можно было считать проигранной. После
пит-стопа я действительно выехал позади Хаккинена, но которого быстро обогнал, как
будто по-другому и быть не могло. Теперь впереди был только Физикелла, которого я
удивительно быстро достал. Потом он совершил небольшую ошибку, и я обошел его.
Впереди было пусто, оставалось надеятся только, что мотор выдержит. Он не оставил
меня в беде, и так я победил в этом Гран-при. Я знал, почему так случилось, и откуда
взялись силы. Радость по этому поводу была не сравнима ни с каким доселе испытанным
мною чувством.
Три последние гонки сезона 1995 (Аида, Сузука, Аделаида) и последующий симпозиум
Формулы 1 в Китае Герхард Бергер использовал для удовольствия предпринять
путешествие по миру на частном самолёте («Citation III»). Херберт Фёлькер из
«Autorevue» сопровождал его и составил свой отчет в форме письма оставшемуся дома
другу.
Летное письмо Фёлькера
Дорогой Фил,
я знаю тебя, Фил. Ты спросишь, почему такой человек, как Герхард, делает подобные
вещи, и что там забыл такой человек как я.
Оба вопроса резонны.
В качестве дорожного талисмана для моих друзей-гонщиков я мало подходил уже до
этого путешествия. Даже наоборот. Гоночный шеф Mercedes Норберт Хауг в Сузуке
выразился так: «Тому, у кого ты амулет, не нужна ведьма».
Это больно, скажу я тебе.
Странно, но Герхард все-таки позвонил снова.
В конце такого сезона, как этот, все без разницы, даже я тут не смог бы ничего еще
больше испортить.
Тут до меня дошло. Значит, мне надо брать билет в Нагою, Токио, Аделаиду, или как?
«Нет. Я прогреваю самолёт», сказал он
«В каком смысле прогреваешь самолёт?»
«Один раз в жизни я хочу выяснить как это — совершить полет по миру на Citation.
Хороший повод. Набраться опыта в качестве капитана. А ты полетишь со мной. Ты ведь
любишь летать».
«Ох. И как выглядит маршрут?»
«Москва, Новобри... или Новобро...»
«Новосибирск?»
«Точно»
«Я лечу»
Citation III приятный самолёт.
Прекрасный, в случае Герхарда снаружи гоночный зелёный, внутри цвета яичной
скорлупы, полностью обитый и рвётся из под тебя как Ferrari на 4-5-6 скоростях. Места
на восемь или девять пассажиров, но мы были максимум втроем, так что над Сибирью и
Моллукскими островами можно было соорудить себе постельку. Потолок и скорость как в
авиалайнере.
Единственный недостаток — это дальность. На одной заправке ты пролетишь
немногим более трех тысяч километров. Этого достаточно практически для любого
маршрута в Европе, но как только приходится иметь дело со степями и океанами, нужно
начинать считать. Чем более экзотична страна, чем запутанней политическая ситуация,
тем сложнее. Поэтому никто и не летает на Citation из Вены в Японию, Австралию, Китай
и Вьетнам.
Но как видишь, бывают исключения.
Наградой за усилия (и огромные расходы) являются, во-первых, потерянные частности.
Например, если тебе надо на гоночную трассу Аида ты не плюхаешься тупо в Токио или
Осаке, а приземляешься точно в Окаяме, которая позволяет себе иметь взлетнопосадочную
полосу для реактивных самолетов.
Кроме того, наградой является интенсивность восприятия. Например, перелет ЕвропаЯпония
(в провинцию) длится не дольше чем в Джамбо (малоиспользуемое в России
слово, лучше пояснить, что это большой реактивный самолет), и тем не менее ты между
делом побывал в Москве, Новосибирске и Пекине. Это очень освежает.
Возьмем, к примеру, Новосибирск. Для меня он всегда был символом льда и тьмы, чтото
вроде обитаемой версии Северного полюса. Теперь же я не могу удержаться, чтобы
тепло порекомендовать этот элегантный городок. Хотя была ночь, но ты все равно
понимаешь, стоящее это место или нет. Заправка за двадцать минут и впервые в этом
сезонe оставили следы на снегу. Сибирский снег! Будет чудесная зима, это видно с
первого взгляда.
Первые лучи солнца заблестели на пустыней Гоби, потом курс на Пекин, пока что
только как промежуточная посадка (Форум Формулы 1 состоялся только месяц спустя,
как бы на обратном пути). Значит, дальше в Окаяму.
История Аиды и Сузуки тебе известна и так. Когда двести тысяч друзей спорта в
Cузуке слегка рассеялись, что-то около двух часов утра, мы сбежали. Хотя до аэропорта
было три часа ходу, это того стоило, так как это был Кансей, новый мега-аэропорт,
который японцы построили в море. На нем парковались примерно сорок Джамбо.
Единственным маленьким самолетом был БравоГольфБраво.
Мы были в хорошем настроении и полетели напрямую на юг, заправились на Гуаме и
приземлились в Кэйрнс, тропическом севере Австралии.
Герхард зафрахтовал в Порт Дагласе катамаран, чтобы отправиться на Лизард Айлэнд и
нырять у Барьерного рифа. Все было клево, только вот с едой были проблемы, а ты ведь
знаешь, Фил, как близко к сердцу я это принимаю.
При этом у команды в холодильнике было все, о чем только можно мечтать: рыба,
раки, стейки и бараньи отбивные. Однако дело было в том, что Герхард вбил себе в
голову, что мы будем есть свежепойманную рыбу и он, он один, об этом позаботится. Он
смотрит слишком много фильмов про капитана Игло.
Можешь себе представить, что произойдёт, когда тиролец забросит удочку на
Барьерном рифе? Знаешь, как он рассчитывает величину наживки?
Он думает, чем больше кусок, тем быстрее придёт жирная рыба. А на рыбалке он
примерно так же терпелив, как Алези при обгоне Шуми.
Вначале на крючке оказались креветки, потом эти чудесные мортон бэй бугс (нечто
вроде лангустов), которые лежали у нас в холодильнике. Рыбы быстро обирали их с
крючка, иногда они еще немного плыли с нами, мы шли все-таки со скоростью 14 узлов,
но, когда Герхард с восторгом принимался вращать катушку удочки, они издевательски
подпрыгивали пару раз и сматывались. Однако среди всех рыб Кораллового моря
распространилась новость, что один тиролец раздаёт полный холодильник и поэтому у нас
на крючках было очень оживлённо. Они сьели наших рыб, целиком и в виде филе, они
сьели наши стейки и обглодали бараньи отбивные до кости.
Член команды Карл робко поинтересовался, не стоит ли ему при следующем нырянии
задушить какую-нибудь стоящую на пути рыбу. Но Герхард сказал: «Нет, я поймаю все,
что нам нужно»
Закончилось все тем, что, находясь в самых богатых рыбой водах мира, мы питались в
основном макаронами.
Фил, я так думаю, что Господь бог знал что делает, когда поместил людей в
определенные места. Как бы то ни было, тирольцев он поместил в горах.
Потом мы полетели на острова Гамильтона. Хотя это и наболее туристические острова
Барьерного рифа, но они все же достаточно велики для нескольких укрытий. И целая
вершина горы на противоположной стороне острова — это укрытие Джорджа Харрисона.
В том, что музыкант и гонщик уже пару лет как друзья, нет ничего нового. Благодаря
этому я познакомился с Джоржем, и на этот раз он пригласил и меня пожить у него.
Конечно, я не буду журналистским образом освещать эту частную встречу, но моим
лучшим друзьям я могу намекнуть, что я увидел в раю: Et in Arcadia ego, как говорят
латиняне.
Представь себе: от вершины холмы вниз к синему-синему морю. Там дальше,
необитаемые благодаря защитникам окружающей среды, острова Whitesunday.
Растительность нашего холма представляет из себя нечто среднее между джунглями,
тропической пальмовой рощей, цветами, соснами, араукариями с гордо возвышающимися
пирамидальными кронами. Подобно тихоокеанской деревне, главное строение и
маленькие домики прижимаются к возвышенности, водоём в скале — это плавательный
бассейн. Дом состоит из бамбука, крыш из пальмовых листьев, света, воздуха и воды, к
этому еще тёмные полы из дерева макаи и много скульптур из Новой Гвинеи.
Мою комнату для гостей с трех сторон окружают маленькие ручейки с красными
кувшинками, которые ночью открывались, а вечером снова запирались, как раз когда
открывались синие розы. Птицы Гамильтона заботятся о том, чтобы ты уже в пять часов
полностью бодрствующим насладился красотой утра. Я различаю только какаду и
кукабурра, но этого и достаточно: одни громко орут, другие, как гиены, раскатисто
хохочут, между тем ликуют и свистят мелкие пташки и все вместе они развивают бурную
деятельность, тренируются в пикировании или скачут по листьям, кидая в бассейн орехи.
Утром для уборки из деревни приходила девушка, в остальное время мы были только
втроем и расслаблялись. Джордж Харрисон действительно это умеет: расслабиться. После
распада Битлз он начал расслабляться и четверть века спустя он достиг в этом исскустве
совершенства.
В сущности, как говорит Джордж, главное — это выделить божественную часть нашей
души.
Теперь мне нужно осторожно выбирать слова, так как для Джорджа это совершенно
серьёзно, хотя, с другой стороны, у него совершенно не испорченный подход к мистике,
так что не возникает желания над ним смеяться. Я имею в виду, что вот стоим мы, к
примеру, в кухне и готовим бенгальские макароны (вегетарианские) и Джордж замечает,
что тот, который сейчас готовит макароны, это не настоящий Джордж.
Настоящий Джордж в виде чистой души, так сказать, сгустка энергии, путешествует
через пространство и время.
Поэтому тот, Джордж, который сейчас стоит на кухне, может быть таким
расслабленным. Ему не нужно изображать из себя важную шишку, как например, это
делает Пол МакКартни, который так ужасно много работает над своим эго и постоянно
ставит рекорды: больше всего денег, больше всего пластинок, больше всего людей на
концерте и так далее — все чепуха.
Поэтому у него, говорит Джордж, нет сложностей со своей идентификацией с Битлз.
«Люди говорят — я Битл, но это только костюм, который я в свое время надел, и люди по
прежнему видят меня в этом костюме и думают что я Джордж. При этом я совсем
другой».
Мммм.
Как бы то ни было, Джордж заботился о расслабленности. Телесно тем, чтобы как
можно меньше травить свое тело, в еде и питье и вообще заботится о хорошем
пищеварении. Это не очень привлекательно и связано с выпиванием большого количества
горячей воды.
Для духовного он медитирует по три-четыре часа в день. Герхарду и мне он может
объяснить все по нашей терминологии. Наше сознание имеет три скорости:
бодрствование, сон и мечтание. Для отдыха ему требуется холостая скорость, и это и есть
медитация.
Я мог бы вечно слушать Джорджа. Во-первых, из за голоса. Это самый красивый
английский из всех, которые я знаю. Он живет в каждом слове светлого музыканта,
которые может раскатать слоги во всех их нюансах и придать им мелодию.
Между делом он снимает со стены гитару или укулель и к моему восторгу поет пару
куплетов, в том числе и «Old Buddha“s Gong», с которой так классно зажигал Хоги
Кармайкл и молодые Bacall. И самую лучшую песню Битлз («к сожалению она не моя, а
Джона»): «Norwegian Wood». Разве это не трогательно, Фил?
...so I lit a fire
isn’t it good
Norwegian wood?
Анплагт и без записи, исключительно для Герхарда и Херби (Во время записи
пластинки в 1965 году Джордж впервые играл на ситаре. Тогда началась его любовь к
Индии).
Очень осторожно Джордж снова и снова рекламирует индийское учение. Ему очень
нравится Герхард и поэтому ему хотелось бы сделать что-то хорошее для его души.
Герхард хотя и честно слушает, но в случае чего предпочтет тирольское.
Ходить с Джорджем Харрисоном в таверну, особенно в эти дни выхода новых
пластинок «Битлз» и телесериала, может быть довольно хлопотно. Японские туристы чуть
сознание не теряют, когда его видят. Но, падая, все-таки желают с ним
сфотографировался. В этих вещах он довольно терпелив, какое-то время.
При всей расслабленности ему трудно выдержать музыку в ресторанах или барах. Он
говорит, что не выносит плохой музыки, он воспринимает ее как физическую атаку, она
пробирает его до костей.
«Она разрушает мою нервную систему»
И что же на это отвечает мой друг Герхард?
«Подумай сколько нервных систем уже разрушил ты»
Мы больше оживляемся, когда Джордж Харрисон говорит о машинах. Он говорит, что
возникли кое-какие проблемы с агентом, и потому он решил что заслужил маленькое
вознаграждение, a little toy.
Это цитата из его любимого фильма. И вот мы сидим у бассейна, а Джордж просто в
растерянности, оттого, что мы этот фильм не знаем. Он говорит, что Питер Селлерс
подарил ему 60 мм копию и дома, в Англии, он посмотрел ее уже не меньше сорока раз.
Поэтому он знает весь фильм наизусть, все диалоги и теперь он нам их перескажет, в
полном восторге от игры слов этого фильма.
Я думаю, что эта безграничная возможность восторгаться была одной из тех вещей,
которая Битлз сделала Битлз: все эти шутки, потеха, переодевания и способность
отрываться по полной.
Короче говоря: это первый фильм Мела Брукса, ему почти 30 лет и называется «The
Producers» и если Фил, ты знаешь хороший магазин видео, то купи себе его, это
действительно что-то.
В любом случае то место, где Зеро Мостель говорит «I deserve a little toy», стало
поводом для Джорджа купить McLaren F1 стоимостью десять миллионов (шасси нр. 025),
которую к тому же сконструировал один из его друзей: Гордон Мэрри.
Представь себе: 99% процентов своего времени ты живёшь отшельником, не встречая
ни одного незнакомого человека, и внезапно ты покупаешь себе самую дикую и заметную
машину в мире, с максимальной скоростью 330. И это в Англии, где от пробок не
продохнуть — как такое можно понять?
А он говорит только: «Я люблю играть»
Большой ребенок, чудесный и мечтательный. И в один прекрасный момент примерно
35 лет назад встретились идеальные большие дети. Это все, что я могу добавить к истории
Битлз.
„Vom alten Konig blo. zur Kurzweil angelegt
fuhrt dieser Kanal doch nach Ten-Shi.“
(Ezra Pound)
Возможно, тебе покажется напыщенным, если я заполню это письмецо цитатами
поэтов. Но у меня никогда больше не будет второго шанса так удачно вставить любимые
строки. Во-первых, они подходят географически, а во-вторых, ко всему что я пережил в
последние месяцы.
Я сильно подозреваю, что Паунд хотел нам сказать, что даже мимолётность красоты
имеет практическое значение, и в качестве игры слов он выбрал водоём в Китае.
Водоём похожий на тот, в котором я сидел вчера!
Тебе мало что скажет название Даотай. Оно примерно означает терраса рыбаков.
Построил ее 800 лет назад отличный император Чжэньцзун династии Цзинь, и вчера я
общался там с утками и лебедями. Разве это не трогательно?
Из десяти миллионов жителей Пекина в пределах видимости не было ни одного. Этот
момент переосмысления пришёл вовремя, хотя он и удивил мое чувство справедливости.
Обширная территория, которую можно было бы назвать городским парком Пекина, к
сожалению, закрыта для посетителей, подобно парку Токио, где живут императоры.
В гостевом доме правительства, в двух шагах от террасы рыбаков, Герхард Бергер как
раз закончил свой доклад. Присутствовали 200 китайских журналистов. Единственным
приглашённым западным изданием стал Autorevue, что говорит в пользу хорошего вкуса
молодого поколения китайцев. Они готовятся к новой эре.
С тех пор как телевидение стало настоящим явлением, по крайней мере в городах,
китайцы просто с ума сходят по Формуле 1. Они считают: если ты в Формуле 1, тогда ты в
мире. А наши заводилы конечно всегда готовы, как только подумают о китайцах, так
сказать, количественно.
Маленький пример: в день нашего прибытия транслировали футбольный матч, даже не
из Пекина, а откуда-то из провинции. Я спросил своего китайского сопровождающего,
является ли это чем-то особенным. Вообще-то нет, ответил он, один из самых плохих
клубов Китая сражается за предпоследнее место в лиге.
«Ага», элегантно сказал я на местном языке
«Но это единственный футбольный клуб во всей провинции. Поэтому у него сто
миллионов поклонников».
Такие круглые цифры, конечно, сводят с ума наших автомобильных боссов. Благодаря
стремлению к фантастическим просторам этого рынка я услышал очень удачные на мой
вгляд слова Фердинанда Пьеха:
«Я хочу снять китайцев с велосипедов»
Это он доверил мне ровно год назад, и я подумал: всю жизнь этого не забуду.
Теперь я смотрю на всех этих китайцев на велосипедах, они слева и справа объезжают
мой чёрный лимузин с этакой китайской элегантностью, и я сотни раз подумал: погоди,
еще немного и Пьех засунет тебя в Аudi.
Вернёмся к Формуле 1. Она является особенно характерным символом для
запутанности смены эпох в Китае: одни распахивают дверь, другие закрывают ее, а
западные люди пытаются давить, не затрагивая темы прав человека.
Таким образом, концерн Philip Morris спонсировал в некотором роде западный
образовательный форум Формулы 1 в Пекине и привез Герхарда Бергера (также
планировался Мика Хаккинен, но он как известно лежал в больнице в Аделаиде). В
первых порывах восторга речь шла даже о том, что Герхард и Мика будут кружить по
Площади небесного спокойствия на своих машинах Формулы 1, но тут китайцы
испугались. Пекин не в коем случае нельзя пропагандировать как возможное место
приведения гонки F1, в таком случае они лучше откажутся от всего цирка вообще.
Тут дело в политике старцев, начать постепенную либерализацию Китая снизу (то есть
с юга) и еще долго сохранять такие регионы, как Пекин, под контролем системы. По
этому речь может идти только о готовой в будущем году трассе Хончу, она на самом юге,
у Макао и Гонконга, где и так уже царит западный образ жизни.
Не важно: китайцы сходят с ума по Формуле 1. Доклад Герхарда Бергера увенчался
огромным успехом. Он просто встал и рассказал, как он живет, ездит, что он делает и
почему. Самым важным вопросом стал, смогут ли китайцы ездить в Формуле 1.
Герхард считает, что вполне.
Другой вопрос: если какая-то провинция сбросится и соберёт миллион долларов,
хватит ли этого, чтобы посадить китайца в кокпит? И так далее в том же духе: мы хотим,
мы хотим.
Как можно обьяснить, что даже живущим за границей китайцам при всем их усердии
не удалось стать гонщиком высшего класса? Ведь в теннисе есть Майкл Чанг и как
результат в Китае знают Томаса Мустера.
А Бергера они теперь знают еще лучше. Бергер на Китайской стене, Бергер на площади
небесного спокойствия, Бергер в доме правительства, постоянные интервью, фотосессии и
кроме того еще вечерний бал.
В Большом зале народов.
Мой дорогой Фил, как описать тебе Большой зал народов?
Итак. Площадь Небесного спокойствия, слева мавзолей Мао. Мы поднимаемся на пару
ступенек. Входим в фойе, спокойно проходим его. В конце мы видим, это было фойе для
фойе. Мы входим в зал, который оказывается началом лестницы и красная ковровая
дорожка до самого верха. Верхняя площадка украшена двумя гигантскими ландшафтами.
Затем попадаешь в зал, в котором за накрытыми столами могли бы поместится пять
тысяч человек. А нас только пара сотен и отсюда возникает пикантность ситуации. В
речах выражаются взаимные благодарности, снова и снова, еще по старому
коммунистическому обычаю. Вносят пятнадцать перемен блюд, одно за другим. Не успел
еще поднести ко рту последнюю вилку, как перед тобой уже ставят следующее блюдо. В
это же время на сцене выступают акробаты, фокусники и любители китайской оперы.
Только мы, парочка западных людей, аплодируем, китайцы остаются абсолютно
невозмутимыми. Шестилетняя девочка балансирует на одной руке на девяти цилиндрах на
четырёх этажах и при этом засовывает себе в уши пальцы на ноге. Мы аплодируем как
сумасшедшие, китайцы с удивлением на нас смотрят.
Однако Большой зал народа — это ничто без своего мужского туалета. Фил, он такого
же размера как ратуша твоего любимого родного города. Отполирован до зеркального
блеска, с чудесными высокими окнами. Ты отливаешь и смотришь на тепло и неярко
освещеную гигантскую площадь. Посмотришь направо, у тебя перед глазами Мао, и ты
слегка кланяешься.
В отеле я зашел к Стиву. У него в комнате, как у генерала Монтгомери перед битвой за
Тобрук. Доклады, карты, погодные планы, срочные новости. Он говорит — есть
проблемы.
Это нехорошо, когда пилот говорит, что есть проблемы.
Наш самолет называется Ромео Виктор-БравоГольфБраво и у него два капитана. Шеф
Герхард Бергер. Он особенно хорошо умеет взлетать и садиться. Стив Коллинз — это
нанятый на весь год пилот Герхарда, так сказать, приложение к самолету, он заботится в
том числе и о предполётных и послеполётных процедурах. То, что мы на частном
самолёте сидим тут в Пекине, уже само по себе чудо. Теперь нам нужно еще одно:
Снова отсюда выбраться.
Только что китайские служба наблюдения за воздушным пространством запретила наш
разрешённый всего две недели назад полётный маршрут. Эта часть пути (в Манделей в
Бирме) была особой гордостью Стива, он просто прыгал от радости, когда получил добро.
Теперь его у него больше нет, он считает и постоянно болтает с Нобби.
Нобби сидит в Лондоне, и это — наша база. 24 часа в сутки, все эти недели. Он
постоянно держит контакт с организациями, которые разрешают или не разрешают, он так
сказать менеджер капитана. Все это немного походит на сумасшедший дом. Но это
относится только к некоторым местам в мире. Например, для того где мы находимся в
данный момент. Частные самолеты практически не добираются до Китая, они редкие
гости во всей восточной и юго-восточной Азии, соответственно слаба и инфраструктура.
К сожалению, мы между делом совершенно потеряли чувство реальности.
Вся эта виртуальная чепуха, которой ты так поклоняешься, мой друг, отрывает нас от
мира. Скажи десятилетнему, что ему нужно отправиться из Пекина в Бангкок, он пару раз
щелкнет по клавишам и даже не выплюнет жвачки. Поэтому я так удивился, когда узнал:
не пойдет. Виртуально да, а на самом деле нет.
Итак, мы не полетели в Манделай. Китайцы решили, что нам больше подойдет Ханой.
Вот это то, что мне так нравится в частных самолетах: ты не зацикливаешься на
определённой цели, по крайней мере, не на Дальнем Востоке.
При отлете из Пекина пришлось пройти некоторые формальности. Мы были втроем,
нас еще раз пересчитали:
«Два члена экипажа, один пассажир»
Экипаж — это были Герхард Бергер и Стив Коллинз.
Пассажир — это был я.
Герхарду это очень понравилось. Сейчас он вообще худоват, а теперь он особенно
вытянул лицо, что бы китайцы решили, что мне надо было бы получше кормить своего
пилота. Пусть думают: Сам себя этот богач неплохо кормит, зато его пилот умирает с
голоду.
Не мог же я повесить себе на шею табличку «Эй друзья, я тоже всего лишь рабочий»,
но я хотя бы попробовал превратить ситуацию в рекламу западного образа жизни. Я
сделал это, изобразив хитрое выражение лица.
Таким образом, китайцы должны были понять, что я не эксплуататор, а заработал свое
богатство мозгами.
У нас любой умник может купить себе самолет и мотаться по миру со своими
пилотами. Это реклама для послекоммунистической эры. Пьех делает тоже самое, когда
говорит, что снимет китайцев с велосипеда. Так появляется система: сначала Golf, потом
Аudi, потом самолет.
Последним этапом нашего большого путешествия стала яхта в Индийском океане.
Это была немаленькая яхта. Но нас было всего пятеро гостей: Флавио Бриаторе со
своей женой, Герхард, его капитан Стив и я. Команда выглядела как картинке, полностью
в белой униформе с погонами, а капитан походил на контр-адмирала. Единственными
теплыми словами, которые я из него вытянул, стало сообщение что на борту 2700 бутылок
Пенфолда и не маленького года. С математической точки зрения все выглядело неплохо,
так как Биаторе и я были единственными понимающими толк в вине, а Пенфолд -это
вершина австралийского виноделия. Его «Grand Hermitage» это что-то. Очень дорогое,
редкое, как говорит гуру вин Хьюг Джонсон, «единственное настоящее вино высшего
класса в южном полушарии».
Если ты сидишь на южном атолле Мальдивских островов на корабле с грузом 2700
бутылок Перфолда на борту, с тобой конечно мало что может случиться. И все же мое
обычное спокойствие подверглось большому испытанию при виде богатства других
людей. Теперь, Фил, я намного лучше разбираюсь в миллиардерах.
Например, Джордж: никогда деньги не были таким приятными, как в окружении
Джорджа Харрисона. Это биологически растворенные деньги, они создали нечто
прекрасное, без ценника.
А вот этот корабль, это самые тяжелые деньги. Хотя его владелец, индийский магнат,
которому нет еще и сорока, тоже не без забот. На него работают семьдесят тысяч человек,
и он — фанат гонок, поэтому его заинтересовали Герхард и Бриаторе.
Мне кажется, все это не интересно по сравнению с Пенфолдом и роскошью
Индийского океана.
Но все же: я был беден. Впервые в жизни по настоящему беден.
Я оказался в ситуации, когда я был единственным человеком за столом, не имеющим
самолета и яхты. Раздавались жалобы на капитанов и пилотов. Я никогда в жизни так
много не молчал. У меня даже нет личного физиотерапевта. Наверное, поэтому я так легко
все воспринимаю.
Для нашего развлечения хозяин выписал из Европы художника ледяных скульптур
вместе с глыбой льда. После одного из обедов, когда я помалкивал над своим Пенфолдом,
художник выступил. Команда перед тем расположила глыбу льда.
Нам представили ледяного скульптора. Сейчас он создаст Benetton Формулы 1.
Сильными, уверенными движениями он долбил и скреб, создавал пропорции, контуры,
все больше уходя в детали, вплоть до спойлеров. Посреди океана возникла воистину
грандиозная скульптура.
Я наблюдал за Герхардом.
Я знаю его очень хорошо, я имею в виду, в подробностях.
Я видел, как он страдал. Не могу тебе передать Фил, как мне это помогло.
Так я пережил самый тяжелый приступ богатства в моей жизни.
Бриаторе полетели с нами домой. Богатство туда, богатство сюда, но сход с яхты был
стильным. Команда построилась на юте. Капитан выглядел как перед битвой за Окинаву.
Быстроходная лодка отвезла нас на остров. Русский вертолет переправил нас в Мале. Там
стоял Citation III Герхарда. Мы быстро поднялись в воздух, между делом заправились в
Бахрейне и Афинах. Дома была зима, но ты сам это знаешь, Фил.
Твой Херби.
Текст: Герхард Бергер
Воскресенье 05 Октября 2014 19:57
следующая статья >>
^^Герхард Бергер - Финишная прямая^^
Теги: ferrari, сенна, снова, бергер
➥ На главную ➥ Новости